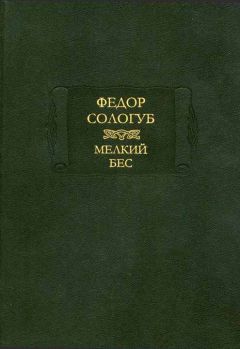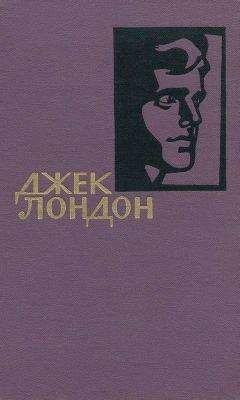Федор Сологуб - Том 2. Мелкий бес
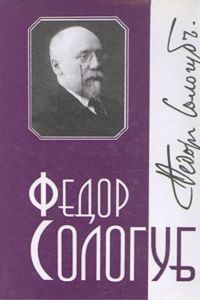
Помощь проекту
Том 2. Мелкий бес читать книгу онлайн
В накуренной и заплеванной биргалке. – Биргалка – пивная (от нем. Bier – пиво).
«Поэт на лире вдохновенной» – Первая строка стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
«…С улыбкой розовой, как молодого дня // За рощей первое сиянье..» – Из стихотворения Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен…»(1840). Сологуб ошибочно отнес эти строки к пушкинским.
«Очи пламенеющего змея…» – Из стихотворения Сологуба «Вячеславу Иванову» (1906).
…личины Афродиты или Медузы, Девы Марии или Астарты, Прекрасной Дамы или Вавилонской блудницы, доброй Лилит или лукавой Евы, Татьяны или Земфиры, Тамары, дочери Гудала, или царицы Тамары. – Афродита – в греческой мифологии богиня любви и красоты. Медуза – в греческой мифологии младшая, «смертная», из трех сестер – горгон, чудовищных порождений морских божеств (старшие, «бессмертные», – Сфено и Эвриала). Дева Мария – мать Иисуса Христа. Астарта – в западно-семитской мифологии богиня любви и плодородия, богиня-воительница. Прекрасная Дама – поэтический образ А. Блока, создавшего цикл «Стихи о Прекрасной Даме». Вавилонская блудница – библейский образ, символизирующий мирскую греховность. Толкователи Библии блудницей называют и сам антихристианский город Вавилон, погрязший в блуде, грехе и боговраждебности. В Откровении Иоанна Богослова – Апокалипсисе – читаем: «И воскликнул он (ангел. – Т. П.) сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее» (гл. 18, ст. 2 и 3). Лилит – согласно одному из древних преданий, прекрасная, соблазнительная, добрая первая жена первочеловека Адама, сотворенная Богом из глины. Потребовав у Адама равноправия, но не сумев убедить его в этом, она улетела. Ева – жена Адама, праматерь человеческого рода. Татьяна – героиня романа Пушкина «Евгений Онегин». Земфира – персонаж поэмы «Цыганы» (1824). Тамара – героиня поэмы Лермонтова «Демон» (1839). Царица Тамара (Тамар) – правительница Грузии (1184–1207), добившаяся больших военных и политических успехов. Ей посвящена поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», памятник грузинской литературы XII в.
II. Старый черт Савельич. Перевал. 1907. № 12.
Савельич – персонаж повести Пушкина «Капитанская дочка» (1836).
И бес, соблазнявший великого Пушкина… – См. его стихотворение «Бесы» (1830).
….у Пушкина… Петр Великий, Моцарт. – Имеются в виду поэмы «Полтава» (1828), «Медный всадник» (1833), неоконченный роман «Арап Петра Великого» (1828), трагедия «Моцарт и Сальери» (1830).
«Поэт на лире вдохновенной..» – См. примеч. к с. 519.
«Небрежный плод моих забав…»– «Евгений Онегин». Посвящение («Не мысля гордый свет забавить…»).
«Безумная душа поэта…» – «Евгений Онегин», гл. 2, строфа XX.
«Марать летучие листы…» – «Евгений Онегин», гл. 6, строфа ХLIII.
«… в строфах небрежных.» – «Евгений Онегин», гл. 8, строфа XLIX.
«стихи для вас – одна забава». – У Пушкина: «Стишки для вас одна забава» («Разговор книгопродавца с поэтом»; 1824).
«Перстами, легкими, как сон» – Из стихотворения Пушкина «Пророк» («Духовной жаждою томим…»; 1826).
«Мазепа, в горести притворной…» – Из поэмы Пушкина «Полтава» (1828).
«Москвич в Гарольдовом плаще…» – «Евгений Онегин», гл. 7, строфа XXIV, в которой Татьяна Ларина, размышляя, создает такой портрет Онегина:
…Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
«…в Гарольдовом плаще» – т. е. в облике Чайльд-Гарольда, романтического гордеца и разочарованного бунтаря, героя одноименной поэмы Байрона.
В «Домике в Коломне» кухарка брилась. – Эпизод из поэмы Пушкина: Параша привела в дом своего поклонника, наряженного кухаркой.
Лиза Берестова хорошо играла роль крестьянки. – Неточность автора: героиню рассказа Пушкина «Барышня-крестьянка» звали Елизавета Григорьевна Муромская; к концу рассказа она стала невестой Алексея Берестова.
Она осталась барышнею цирлих-манирлих… – От нем. zirlich-manirlich – жеманный, манерный.
Анна Ермолина – героиня романа Сологуба «Тяжелые сны» (см. т. 1 наст. изд.).
Мисс Жаксон – гувернантка Лизы Муромской из рассказа Пушкина «Барышня-крестьянка».
Дубровский… под видом французаДефоржа. – Эпизод повести Пушкина «Дубровский» (1833).
…два исторических самозванца… – Самозванец из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1825) – Гришка Отрепьев, назвавшийся царевичем Димитрием, а в «Капитанской дочке» – Емельян Пугачев, объявивший себя царем Петром Федоровичем.
…тема «Ревизора» принадлежит Пушкину же. – В архиве Пушкина сохранился набросок сюжета, с которым поэт познакомил Н. В. Гоголя, просившего его дать «какой-нибудь сюжет» (письмо Гоголя к Пушкину от 7 октября 1835 г.).
«Ведь он же гений, как ты да я»… – В трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» Моцарт говорит о Пьере Бомарше (1732–1799), великом французском драматурге:
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ль?
Холоден был (Пушкин. – Т. П.) только к двум: к гениальному Баратынскому и к Бенедиктову, литературному предшественнику одного из самых известных современных поэтов. – Ошибочное утверждение Сологуба о Пушкине, который заметил Баратынского с его первой книги (1827). «Наконец появилось, – написал он в рецензии, – собрание стихотворений Баратынского, так давно и с таким нетерпением ожидаемое. Спешим воспользоваться случаем высказать наше мнение об одном из первоклассных наших поэтов и (быть может) еще недовольно оцененном своими современниками». В другой рецензии – «Поэма Баратынского „Бал“» (1828) – Пушкин возмущается тем, что «критики изъявляли в отношении к нему (Баратынскому. – Т. П.) или недобросовестное равнодушие, или даже неприязненное расположение» (как Белинский, например). «Между тем, – подытоживает Пушкин, – Баратынский спокойно усовершенствовался – последние его произведения являются плодами зрелого таланта. Пора Баратынскому занять на русском Парнасе место, давно ему принадлежащее». Наконец, в наброске статьи, датированной концом 1830 – началом 1831 гг., Пушкин пишет: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов <…> Время ему занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды», т. е. К. Н. Батюшкова (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 6. С. 241, 255–256,325-326). И в «Евгении Онегине» Пушкин счел возможным посвятить автору «волшебных напевов» Баратынскому строки, исполненные нежного дружелюбия, где среди прочих есть такие: «Где ты? Приди – свои права // Передаю тебе с поклоном».
Неправ Сологуб и в том, что Пушкин «холоден был» к младшему своему современнику Владимиру Григорьевичу Бенедиктову (1807–1873). Наш величайший поэт упоминает его в печати только единственный раз, но вовсе без «холода»: «Новые поэты, Кукольник и Бенедиктов, приняты были с восторгом». Эта пушкинская фраза перекликается и с точкой зрения многих критиков, и с воспоминаниями Я. П. Полонского, биографа Бенедиктова: «…Не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова… Учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали..»(Сочинения В. Г. Бенедиктова. Т. I. СПб.; М, 1902. С. XII). Что же говорил Пушкин о Бенедиктове в беседах с друзьями, известно из воспоминаний его современников. Эти высказывания критически рассмотрены в статье литературоведа Л. Я. Гинзбург «Пушкин и Бенедиктов» (в кн.: Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М; Л., 1936.№ 2.С. 148–182).
Мнение Сологуба, очевидно, сформировалось под влиянием резко отрицательных суждений Белинского и о Баратынском, и о Бенедиктове, особенно о последнем, которого критик упрекает за чрезмерную вычурность языка и прозаизмы. В спорах о Бенедиктове, ныне забытых и поминаемых лишь историками литературы, истина восторжествовала в пору расцвета русского литературного модерна. Один из самых ярких критиков Серебряного века Ю. И. Айхенвальд свой очерк о поэте начинает так: «Бенедиктов, вокруг имени которого давно уже образовалась атмосфера насмешки и пренебрежения, как раз в последнее время встретил себе признание и оценку со стороны поэтов новой школы. Так, Федор Сологуб считает его предшественником одного из выдающихся наших модернистов (есть все основания думать, что автор имеет в виду Бальмонта, с которым Бенедиктова роднит необычайная звучность стиха, фонетическая законченность и какой-то малиновый звон „искрометной“ рифмы)… Поэт, осмеянный Белинским, ославленный им как ритор и любитель звуковой мишуры, берется теперь под защиту тонкими знатоками и виртуозами слова». Очерк критика, защищающего Бенедиктова от наветов сторонников Белинского, заканчивается так:«…Любитель слова, любовник слова, он в истории русской словесности должен быть помянут именно в этом своем высоком качестве, в этой своей привязанности к музыке русской речи» (Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. Вып. III. Изд. 3-е., испр. М.: Мир, 1917. С. 36, 44).