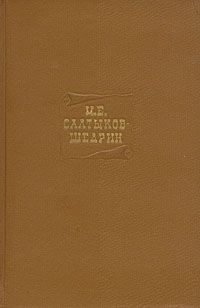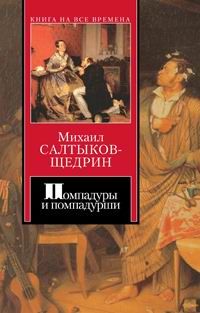Михаил Салтыков-Щедрин - Том 17. Пошехонская старина

Помощь проекту
Том 17. Пошехонская старина читать книгу онлайн
Впервые — ВЕ, 1889, № 2, с. 473–524. Написано в августе-сентябре 1888 года. Сохранились три черновые рукописи — одна (№ 269), относящаяся к гл. XXVIII; две (№ 270–271) — к гл. XXIX.
В рукописи фамилия образцового хозяина — Голотелов.
Рукописи главы «Валентин Бурмакин» содержат две редакции. Обе занумерованы как гл. XXVIII. В первой (завершенной) номер зачеркнут.
Во второй отсутствует конец, она близка к печатному тексту. Общая характеристика людей 40-х годов и самого Бурмакина в первой редакции значительно отличается от печатного текста. Отрывок из нее публикуется в разделе Из других редакций. Кроме того, интересны следующие два отрывка первой редакции, не вошедшие в печатный текст (второй из них зачеркнут карандашом):
<1>«Сближение между молодыми людьми произошло, однако ж, не скоро. Несмотря на материнские наставления, Милочка туго пробуждалась из состояния вялости, которое присуще было ее природе. Бурмакин тоже был застенчив и лишь изредка перебрасывался с красавицей двумя-тремя незначащими словами. Толпа, постоянно теснившаяся около нее, не только мешала излиться чувству молодого человека, но и поселила в нем убеждение, что чересчур скромная роль, которую он играет в этой толпе, делает его смешным. Произошло внутреннее колебание, которое заставило его даже воздерживаться от частых свиданий.
[Представление о культе красоты как об одном из главных факторов разумного человеческого существования даже ввиду грубой ловли не по кинуло его. Он в сферу своих отношений к женщине вносил ту же отвлеченную убежденность, которая руководила им во всей его жизнедеятельности. Не женщина в реальном смысле слова стояла на первом плане, а то прекрасное и женственное, которое она олицетворяла собой.]
Конечно, он не выдержал и через короткое время опять начал столь же часто, как и прежде, ездить к родным. По обыкновению, в доме было людно. Но при появлении его толпа обожателей отхлынула от Милочки и сгруппировалась около других девиц. Несмотря на свою наивность, он догадался, что его ловят. Но, разумеется, поставил эту ловлю всецело на счет Калерии Степановне. И она, и старики Бурмакины, и офицеры — все участвуют в пошлом заговоре… все, кроме нее! Она, как белый голубь, среди черного воронья приютилась, осиянная ореолом непорочности и красоты, и загадочно смотрит вдаль в ожидании часа, когда дуновение страсти коснется ее.
Тем не менее, как ни погружен был Бурмакин в отвлеченности, в нем все-таки говорила кровь. Пленительная статуя, которою он так часто любовался, уже настолько его взволновала, что невольно рождался вопрос о том, на чью долю выпадет роль Пигмалиона, которому суждено вдохнуть в эту статую дух жив. И мысль, что, быть может, одного его решительного шага достаточно, чтобы вожделенное чудо свершилось, все глубже и глубже укоренялась в нем, разливая сладкую тревогу во всем его существе.
2«В Москве Бурмакина приняли с распростертыми объятиями и с участием выслушали рассказ о его семейной невзгоде. — Это было с самого начала видно, — говорили они. — Тебе нужна жена разумная, с которой можно было бы мыслями поделиться, а с этой куклой даже слова перемолвить не об чем.
Бурмакин не ошибся: друзья доставили ему несколько уроков, хотя и не дорогих, но с помощью которых все-таки можно было кой-как существовать. — Бодрись! — убеждали его. — А, главное, забудь обо всем, что тянуло тебя в постылое захолустье. И об жене, и даже об Веригине. Представь себе, что все это был дурной сон, который с появлением солнечного луча навсегда рассеялся.
Но увы! Существует на свете болезненное чувство, называемое тоскою, которое неизвестно откуда возьмется, присосется к человеку и начнет его сердце на части рвать. Приятели говорили: забудь; тоска твердила: не забывай! Больное сердце помнило. И восторги и обиды — все всплывало как живое и образовало бесконечную канву для воспоминаний».
Рассказ об «образцовом хозяине» Пустотелове — один из наиболее синтетических в «Пошехонской старине». В нем классически, со всей полнотой достоверности и художественной выразительности изображена картина хозяйственной эксплуатации помещиком крепостного крестьянина — основы основ всей системы. Вместе с тем в характере и судьбе Пустотелова Салтыков показал одну из примечательных черт «биографии» всего помещичьего класса. Большинство его представителей жило в слепой уверенности, что существующие устои жизни неколебимы. Отсюда — совершенная неподготовленность к наступившей, исторически неизбежной, ломке социальных отношений.
Еще более трагичен «портрет» Валентина Бурмакина — единственного, на страницах «хроники», помещика-интеллигента, с университетским образованием. Бурмакин — типичный идеалист «сороковых годов», «ученик Грановского и страстный почитатель Белинского», Салтыков сам прошел идейную школу «сороковых годов», хорошо знал ее людей и не раз писал о них. Высоко оценивая идейное брожение этого периода, стремительный рост русской передовой мысли, Салтыков вместе с тем неизменно указывал на недостаток движения — на его «оторванность от реальной почвы». Жертвой этой «оторванности», своего незнания практической жизни и наивного идеализма становится и Бурмакин. Создавая этот типический «портрет», Салтыков воспользовался для него некоторыми чертами характера и личности товарища своих детских и школьных лет, известного впоследствии литератора С. А. Юрьева. В беседе с Алексеем Н. Веселовским в феврале 1889 года Салтыков сказал ему: «В герое рассказа, Валентине Бурмакине <…> много юрьевского, хотя обстоятельства его жизни, его женитьба и т. д. с умыслом изменены и расходятся с действительностью».
…соседи, ездившие на коронацию… — на коронацию Александра II, в Москве.
…одна была отдана Ормузду, другая — Ариману. — В древне-иранской мифологии Ормузд — бог добра, Ариман — бог зла.
«святая простота»… «sancta simplicitas»… — Эта «формула» (слова ее восходят к выступлению одного из богословов на Никейском соборе IV в.) отражала недостаточную зрелость русской демократической мысли 40-х годов. Под ее покровом идеализировались патриархальные черты народной жизни, романтизировалась ее отсталость.
Существующее уже по тому одному разумно, что оно существует. — Другая «формула», сыгравшая большую роль в идейной жизни русских людей 30-40-х годов. Возникла в результате неправильного понимания одного из положений гегелевской философии. «Формула» открывала пути к «измене» — к «примирению с действительностью» и оправданию крепостничества и самодержавия.
Sursum corda! — «Горѐ имеем сердца», см. выше, примеч. к с. 36.
«Женственное» — или, в полной форме, «вечно женственное». Также одна из «формул» в идейной жизни 40-х годов. Выражение восходит к «Мистическому хору» в «Фаусте» Гете («Das Ewigweibliche»).
…в театр… — Здесь и дальше речь идет о Малом театре и его знаменитых спектаклях 40-х годов с участием Мочалова, Щепкина и др. В описаниях этих отразились и личные воспоминания Салтыкова.
«Британия» — трактир на бывшей Моховой улице в Москве, форум литературно-театральных и философских споров университетской молодежи в 40-е годы.
XXX. Словущенские дамы и проч*
XXXI. Заключение*
Впервые — ВЕ, 1889, № 3, с. 5–40. Написано — гл. XXX в сентябре-ноябре 1888 года, гл. XXXI — в январе 1889 года. Сохранилось шесть черновых рукописей; из них пять (№№ 272–276) относятся к гл. XXX и одна (№ 277) — к гл. XXXI.
Рукописи главы XXX «Словущенские дамы и проч.» показывают, что вошедшие в ее печатный текст главки «Братья Урванцовы» и «Перхунов и Метальников» задуманы были сначала как самостоятельные главы «хроники».
Первоначальная редакция главки «Перхунов и Метальников» значительно отличается от печатного текста и публикуется в разделе Из других редакций (рук. № 274). Во второй редакции этой главки интересен следующий отрывок, не вошедший в печатный текст:
«Тем не менее даже и тогда не все темпераменты одинаково относились к обязательным сумеркам, которые весь жизненный строй окутывали пологом непроницаемости. Конечно, большинство без размышления шло по намеченной колее, а истинные столпы даже не без убеждения говорили (как говорят, пожалуй, и ныне): с нас будет и этого; но изредка встречались личности, которые ощущали потребность постичь смысл ежовых рукавиц и хотя слегка приподнять завесу канцелярской тайны…