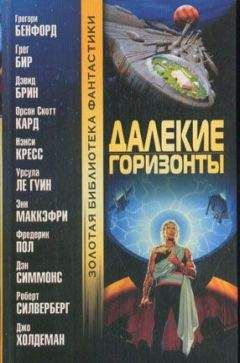Сергей Аксаков - Том 3. Литературные и театральные воспоминания
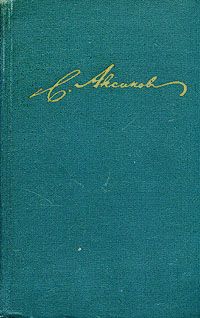
Помощь проекту
Том 3. Литературные и театральные воспоминания читать книгу онлайн
Ничего из слышанного мною не сохранилось в моей памяти; помню только, что Николев прочел всем известную тогда пародию на Тредьяковского, которую я знал наизусть еще в Петербурге.
Аз Тредьяковский, строгий пиита,
Красного слога борзый писец,
Сиречь чья стопно мысль грановита –
Что же бы в рифму? Русский певец.
Брякну стихами песни похвальны
Ратничкам русским, аки руссак:
Прочь скоротечно, мысли печальны!
Вас не изволю слушать никак; и пр.[8]
Тут только я узнал, что она принадлежала Николеву. Часа через два Николев лег спать и гости разъехались. Через несколько дней я был у Николева один поутру, согласно его приглашению и моему обещанию. Мальчик от него не отходил, часто исполняя разные его приказания. Вероятно, он давно служил при своем господине: он был так наметан, что по одному знаку без слов отгадывал, что ему нужно, и всегда стоял против своего барина. Разговор недолго держался на посторонних предметах и скоро перешел к сочинениям хозяина. Читая какую-то пьесу наизусть, он запнулся, сделал знак рукой мальчику, и тот сейчас бросился к шкафу, достал из него и принес, кажется, пять больших книг, в лист, в переплете, но рукописных: это были сочинения Николева.[9] Он попросил меня, чтобы я в таком-то томе отыскал такую-то пиесу и начал бы ее читать вслух. Едва я дошел до того места, где поэт остановился, как он вспомнил забытый стих и продолжал уже декламировать сам. Подобное обстоятельство, случившееся еще несколько раз, конечно изобличало слепоту Николева; но он и тут продолжал прежнюю комедию: заглядывал ко мне в книгу, как будто справляясь, не ошибся ли я, потом брал ее в руки и, как будто по книге, продолжал чтение начатой мною пиесы. Были ошибки, пожалуй, смешные, но скорее жалкие. В стихотворениях Николева было множество примечаний, разумеется писанных прозою; их все читал уже я, и автор слушал с наслаждением. Он придавал великую важность своим примечаниям и весьма наивно говорил, что тут скрыта бездна знаний и учености и что одни примечания могли бы составить великую славу их сочинителю. О новейших писателях по большей части он говорил с насмешкою или презрением. Мне очень хотелось выслушать всего «Малек-Аделя», но автор не стал читать, откладывая это до другого времени. Впоследствии, бывая довольно часто у Николева, я слышал несколько сцен из «Малек-Аделя», но всегда при других посетителях, наедине же он никогда не читал мне своей трагедии. Вероятно, Николеву одного меня или вообще одного слушателя было мало, потому что в присутствии Шатрова и Глинки он охотно разыгрывал некоторые сцены; всей пиесы я никогда не слыхал, а потому и содержания ее хорошенько не знаю. – Предсказания Шушерина оправдались: Шатров мало-помалу начал при мне подшучивать над Николевым и особенно над его старанием скрывать свою слепоту. Конечно, эта странная слабость, казалось бы несвойственная умному человеку, как-то уменьшала то сожаление, которое чувствуется всеми к человеку, лишенному зрения. Обман являлся так явен, что иногда нельзя было не улыбнуться; но Шатров наводил Николева наглым образом на смешные промахи и ставил его в карикатурные положения, даже до неприличия. Это были совершенно школьничьи шутки, которые меня никогда не забавляли, а также и С. Н. Глинку; но Шушерин очень ими потешался и даже подстрекал Шатрова к разным выдумкам. Что за мудреное создание человек! Шатров любил Николева, как близкого родного, ухаживал за ним во время его болезни, развлекал во время скуки, видел в нем великого писателя, прибавляя по секрету, что у него много и дряни, – и тот же Шатров ругался над слепотой Николева и задыхался от сдержанного смеха, когда слепец натыкался на подставленный ему стул и больно ушибался.[10]
Я вторично встретился с Н. И. Ильиным, кажется, на литературном вечере у Ф. Ф. Кокошкина. Ильин с благосклонною важностью опять пригласил меня к себе, и я на другой день поехал к нему; жил он ужасно далеко, где-то за Красными воротами, в деревянном ветхом домишке, помнится, своей сестры. Он помещался очень тесно, в небольшом чулане, который с важностью называл своим «рабочим кабинетом». Все обличало большой недостаток состояния и в то же время ярко и карикатурно прикрывалось великолепием обращения. По важности приемов и тона можно было принять Ильина за богатого вельможу, а ветхость шлафрока и всей обстановки обличали в нем бедняка. Мне сейчас пришел в голову испанский дворянин Дон Ранудо де Калибрадос, выведенный в комедии Коцебу, который, три дня не евши, ковырял в зубах. Вспоминая теперь об этих людях, я нахожу, что Ильин и Николев разыгрывали одну и ту же комедию: слепой представлял зрячего, а бедняк – знатного богача. Ильин принял меня, однако, с большою вежливостью и даже ласкою, не теряя, впрочем, своего высокого достоинства. У этого господина было такое же огромное самолюбие, как у Шатрова и Николева, но он умел его скрывать в Петербурге. Я видел его по крайней мере двадцать раз у Шушерина, и не более, как за год; тогда это был совсем другой человек. Ну, подумал я, как разбухает авторское самолюбие в Москве. Впрочем, это было справедливо только в отношении к трем сочинителям, сейчас мною названным, принадлежавшим к особому кругу людей с отсталыми понятиями. Сценические успехи Ильина вскружили ему голову. В самом деле, «Лиза, или Торжество благодарности» и «Рекрутский набор» – пьесы точно с некоторым достоинством, особенно последняя, – производили при своем появлении, и в Москве и в Петербурге, такое сильное впечатление, даже восторг, какого не бывало до тех пор, как мне сказывали старожилы-театралы. Я видел много раз эти пиесы на сцене, когда они были уже не новость, и могу засвидетельствовать, что публика и плакала навзрыд и хлопала до неистовства: в Петербурге поменьше, в Москве побольше. Говорят, вызов на сцену авторов начался с Ильина.[11]
В последнее время он ничего уже замечательного не писал и отдыхал на лаврах. Самолюбие Н. И. Ильина довольно выражается тем, что он впоследствии одну из своих ничтожных театральных пьесок печатно посвятил «Великому своему учителю Фон-Визину». В этот раз я заметил в Ильине еще другую слабость, которая и тогда уже развивалась в нем наравне с авторским самолюбием, а впоследствии выросла до нелепых и гибельных размеров, – слабость к знати. Он беспрестанно упоминал о своем близком знакомстве с знатными людьми: графы, князья, генералы и действительные тайные советники не сходили у него с языка. У князя Юсупова он ужинал, у княгини N. N. завтракал, у графа Шереметева обедал, у графини N. N. был на бале, с его высокопревосходительством ездил на охоту, со всеми короткий друг – только у него было и речей. Мне стало это гадко, и когда он предложил мне свое покровительство, чтоб познакомить меня в некоторых знатных домах, то я с горячностью молодости выразительно ему отвечал, что ищу знакомства людей, отмеченных дарами божьими, а не знатностью. Ильин осудил мою выходку и сказал что-то вроде наставления. Когда я собирался уехать, благосклонный хозяин спросил меня, куда я еду; я отвечал, что домой, то есть в дом, нанимаемый моим семейством в Старой Конюшенной. – «В чем вы приехали?» – «На извозчике», – отвечал я. «Ну, так я вас довезу. Мне самому надобно ехать в Старую Конюшенную к княгине N. N., я у нее обедаю», – сказал Ильин; свистнул и, видя, что никто не идет, принялся звонить в колокольчик; наконец, пришел старый слуга, очень бедно одетый, и хозяин величественно сказал: «Прикажи кучеру Федору заложить мне возок или лучше сани, потому что дорога дурна (тут последовало молчание): в корень – Оленя, на пристяжку – Куницу». Лакей отвечал, что лошади давно готовы. Хозяин попросил позволения одеться и вышел; одевался очень долго; я проклинал себя, что не отказался от его предложения. Наконец пришел одетый с большой изысканностью и претензией на щегольство, считавший себя в то же время красавцем, ужасно надоевший мне Н. И. Ильин, и мы вышли на крыльцо. Увы! Олень и Куница оказались такими клячами, что мы едва дотащились до Старой Конюшенной, а барин беспрестанно приказывал сдерживать лошадей по причине дурной дороги, которая в самом деле разрушалась от весеннего солнца. В другой раз я уже не был у Ильина, несмотря на скорый его визит и учтивые приглашения.
Я поспешил рассказать Шушерину мое свидание с Ильиным и думал удивить его; но Шушерин, посмеявшись, сказал мне, что он давно знает эти грешки за Н. И. и что в Москве они пошли в гору. Вообще Шушерин был очень умен и знал насквозь всех своих знакомых; он любил посмеяться над слабостями своего ближнего за глаза и даже в глаза, но так искусно, что ни с кем не ссорился; он умел держать себя прилично в разных слоях общества. Я бывал с ним вместе на литературных вечерах у Ф. Ф. Кокошкина, у которого обыкновенно собирались Каченовский, Мерзляков и Ф. Ф. Иванов, сочинитель драматических пиес «За богом молитва, а за царем служба не пропадают» и «Не бывать фате» – пиес, которые в свое время имели значительный успех. Иванов слыл большим остряком и в самом деле был остроумный и веселый собеседник. Приезжали иногда гр. Салтыков, Вельяшев-Волынцев, Смирнов, зять Мерзлякова, и другие; Шушерин вел себя с большим тактом со всеми. Кокошкин иногда читал на этих вечерах свой перевод Мольерова «Мизантропа» и просил замечаний. Замечания Каченовского всегда были очень дельны, но умеренны, а Мерзляков, бывавший по вечерам обыкновенно веселее, часто нападал беспощадно на переводчика. Один раз Кокошкин, выведенный из терпенья его беспрестанными придирками, положил рукопись на стол, очень важно сложил руки и сказал: «Да помилуйте, Алексей Федорыч, предоставьте же переводчику пользоваться иногда стихотворной вольностью». – «Стихотворная вольность состоит в том, чтоб писать хорошо», – возразил Мерзляков, произнося слова своим пермским выговором на о. Все громко засмеялись и одобрили такой ответ. Но едва ли кто больше Мерзлякова пользовался так называемой стихотворной вольностью, в которой он так резко отказывал Кокошкину – особенно в своих переводах Тасса, из которых отрывки он также иногда читывал у Кокошкина… и никто, кроме Каченовского, не делал ему никаких замечаний, да и те были весьма снисходительны. Я тут же сообщал потихоньку Шушерину на ухо мои критические заметки и один раз попросил у него совета: «Не сказать ли мне моих замечаний самому Мерзлякову?» Но Шушерин удержал меня, сказав: «Ну, полно, любезный друг, что тебе за охота? Ведь ты еще юноша, а это знаменитый муж, профессор словесности. Разумей про себя и не делай сам того, что критикуешь у Мерзлякова». Я послушался Шушерина и, конечно, сделал хорошо. Нет, однако, никакого сомнения, что перевод Кокошкина много обязан своим достоинством, правильностью и (по-тогдашнему) чистотою языка строгим замечаниям Мерзлякова.