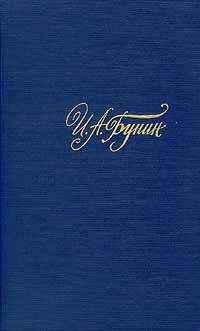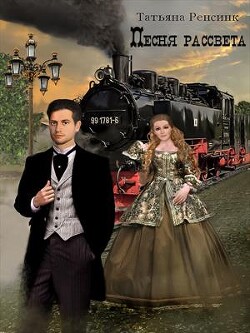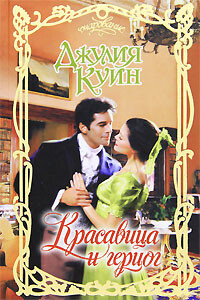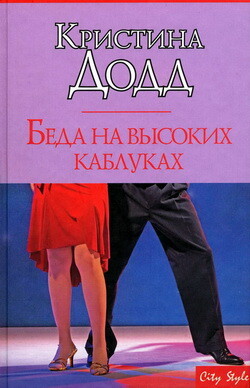Иван Бунин - Том 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952

Помощь проекту
Том 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952 читать книгу онлайн
Я уже знал, что мы стали бедные, что отец много «промотал» в крымскую кампанию, много проиграл, когда жил в Тамбове, что он страшно беспечен и часто, понапрасну стараясь напугать себя, говорит, что у нас вот-вот и последнее «затрещит» с молотка; знал, что задонское именье уже «затрещало», что у нас уже нет его; однако у меня от тех дней все таки сохранилось чувство довольства, благополучия. И я помню веселые обеденные часы нашего дома, обилие жирных и сытных блюд, зелень, блеск и тень сада за раскрытыми окнами, много прислуги, много гончих и борзых собак, лезущих в дом, в растворенные двери, много мух и великолепных бабочек… Помню, как сладко спала вся усадьба в долгое послеобеденное время… Помню вечерние прогулки с братьями, которые уже стали брать меня с собой, их юношеские восторженные разговоры… Помню какую-то дивную лунную ночь, то, как неизъяснимо прекрасен, легок, светел был под луной южный небосклон, как мерцали в лунной небесной высоте редкие лазурные звезды, и братья говорили, что все это — миры, нам неведомые и, может быть, счастливые, прекрасные, что, вероятно, и мы там будем когда-нибудь… Отец спал в такие ночи не в доме, а на телеге под окнами, на дворе: наваливали на телегу сена, на сене стелили постель. Мне казалось, что ему тепло спать от лунного света, льющегося на него и золотом сияющего на стеклах окон, что это высшее счастье спать вот так и всю ночь чувствовать сквозь сон этот свет, мир и красоту деревенской ночи, родных, окрестных полей, родной усадьбы…
Только одно событие омрачило эту счастливую пору, событие страшное и огромное. Однажды вечером влетели во двор усадьбы пастушата, гнавшие с поля рабочих лошадей, и крикнули, что Сенька на всем скаку сорвался вместе с лошадью в Провал, на дно Провала, в те страшные заросли, где, как говорили, было нечто вроде илистой воронки. Работники, братья, отец, все кинулись туда, спасать, вытаскивать, и усадьба замерла в страхе, в ожидании: спасут ли? Но село солнце, стало темнеть, стемнело — вестей «оттуда» все не было, а когда они пришли, все притихло еще более: оба погибли — и Сенька и лошадь…
Помню страшные слова: надо немедленно дать знать становому, послать стеречь «мертвое тело…» Почему так страшны были эти совершенно для меня новые слова? Значит, я их уже знал когда-то?
XЛюди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той нощи восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть…» Вот к подобным людям принадлежу и я.
Я с особенной чувствительностью слушал в младенчестве о темных и нечистых силах, сущих в мире, и о «покойниках», отчасти сродных этим силам. Я слышал, как говорили о «покойном» дяде, о «покойном» дедушке, о том, что «покойники» находятся где-то «на том свете», и, слушая, приобретал какие-то неприятные и недоуменные впечатления, боязнь темных комнат, чердака, глухих ночных часов, чертей — и привидений, иначе говоря, все тех же «покойников», оживающих и бродящих по ночам.
Когда и как приобрел я веру в Бога, понятие о Нем, ощущение Его? Думаю, что вместе с понятием о смерти. Смерть, увы, была как-то соединена с Ним (и с лампадкой, с черными иконами в серебряных и вызолоченных ризах в спальне матери). Соединено с Ним было и бессмертие. Бог — в небе, в непостижимой высоте и силе, в том непонятном синем, что вверху, над нами, безгранично далеко от земли: это вошло в меня с самых первых дней моих, равно как и то, что, не взирая на смерть, у каждого из нас есть где-то в груди душа и что душа эта бессмертна. Но все же смерть оставалась смертью, и я уже знал и даже порой со страхом чувствовал, что на земле все должны умереть — вообще еще очень не скоро, но в частности в любое время, особенно же накануне Великого Поста. У нас в доме, поздним вечером, все вдруг делались тогда кроткими, смиренно кланялись друг другу, прося друг у друга прощенья; все как бы разлучались друг с другом, думая и боясь, как бы и впрямь не оказалась эта ночь нашей последней ночью на земле. Думал так и я и всегда ложился в постель с тяжелым сердцем перед могущим быть в эту роковую ночь Страшным Судом, каким-то грозным «Вторым Пришествием» и, что хуже всего, «восстанием всех мертвых». А потом начинался Великий пост, — целых шесть недель отказа от жизни, от всех ее радостей. А там — Страстная неделя, когда умирал даже Сам Спаситель…
На Страстной, среди предпраздничных хлопот, все тоже грустили, сугубо постились, говели — даже отец тщетно старался грустить и говеть, — и я уже знал, что в пятницу поставят пред алтарем в рождественской церкви то, что называется плащаницей и что так страшно — как некое подобие гроба Христа — описывали мне, в ту пору еще никогда не видевшему ее, мать и нянька. К вечеру Великой субботы дом наш светился предельной чистотой, как внутренней, так и внешней, благостной и счастливой, тихо ждущей в своем благообразии великого Христова праздника. И вот праздник наконец наступал, — ночью с Субботы на Воскресенье в мире совершался некий дивный перелом, Христос побеждал смерть и торжествовал над нею. К заутрене нас не возили, но все же мы просыпались с чувством этого благодетельного перелома, так что, казалось бы, дальше не должно было быть места никакой печали. Однако она даже и тут была, даже в Пасхе. Вечером в тихих и розовых весенних полях слышалось отдаленное, но все приближавшееся и все повторявшееся с радостной настойчивостью: «Христос Воскресе из мертвых» — и через некоторое время показывались «Христоносцы», молодые мужики без шапок и в белых подпоясках, высоко несшие огромный крест, и девки в белых платках, — эти несли в чистых полотенцах церковные иконы. Все шли с торжествующим пением, входили во двор и, дойдя до крыльца, радостно и взволнованно, с сознаньем честь честью завершенного дела, замолкали, затем братски, как равные с равными, целовались со всеми нами мягкими и теплыми, очень приятными молодыми губами и осторожно вносили крест и иконы в дом, в зал, где в тонком полусвете весенней зари мерцала в главном углу лампадка, и ставили иконы на сдвинутые под лампадку столы, на новые красивые скатерти, а крест в меру с рожью. Как прекрасно было все это! Но, увы, было и грустно и жутко немного. Все было хорошо, успокоительно, лампадка в весеннем чуть зеленеющем сумраке горела так нежно, миротворно. А все-таки было во всем этом и что-то церковное, Божественное и потому опять соединенное с чувством смерти, печали. И не раз видел я с каким горестным восторгом молилась в этот угол мать, оставшись одна в зале и опустившись на колени перед лампадкой, крестом и иконами…
О чем скорбела она? И о чем вообще всю жизнь, даже и тогда, когда, казалось, не было на то никакой причины, горевала она, часами молилась по ночам, плакала порой в самые прекрасные летние дни, сидя у окна и глядя в поле? О том, что душа ее полна любви ко всему и ко всем и особенно к нам, ее близким, родным и кровным, и о том, что все проходит и пройдет навсегда и без возврата, что в мире есть разлуки, болезни, горести, несбыточные мечты, неосуществимые надежды, невыразимые или невыраженные чувства — и смерть…
Не Сенька дал мне понятие о смерти. Я и до Сеньки знал и в известной мере чувствовал ее. Однако это благодаря ему почувствовал я ее в первый раз в жизни по настоящему, почувствовал ее вещественность, то, что она наконец коснулась и нас. Я впервые ощутил тогда, что она порой находит на мир истинно как туча на солнце, вдруг обесценивая все наши «дела и вещи», лишая нас интереса к ним, чувства законности и смысла их существования, все покрывая печалью и скукой. Она в тот памятный вечер восстала из-за гумна, из-за риги, со стороны Провала. И долго, долго чудилось мне потом что-то очень темное, тяжкое и даже как будто гадкое в той стороне, и все, о чем бы я ни думал, что бы я ни видел, связывалось у меня с Сенькой и с бесплодными вопросами: что сталось с ним после того, как его задавило, и что он теперь такое, и почему именно в этот вечер погиб он?
XIДни слагались в недели, месяцы, осень сменяла лето, зима осень, весна зиму… Но что могу я сказать о них? Только нечто общее: то, что незаметно вступил я в эти годы в жизнь сознательную.
Помню: однажды, вбежав в спальню матери, я вдруг увидал себя в небольшое трюмо (в овальной раме орехового дерева, стоявшее напротив двери) — и на минуту запнулся: на меня с удивленьем и даже некоторым страхом глядел уже довольно высокий, стройный и худощавый мальчик в коричневой косоворотке, в черных люстриновых шароварах, в обшарпанных, но ловких козловых сапожках. Много раз, конечно, видал я себя в зеркале и раньше и не запоминал этого, не обращал на это внимания. Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлен и даже слегка испуган той переменой, которая с каких то пор, — может быть, за одно лето, как это часто бывает, — произошла во мне и которую я наконец внезапно открыл. Не знаю точно, когда, в какое время года это случилось и сколько мне было тогда лет. Полагаю, что случилось осенью, судя по тому, что, помнится, загар мальчика в зеркале был бледный, такой, когда он сходит, выцветает, и что был я, должно быть, лет семи, а более точно знаю только то, что мальчик мне понравился своей стройностью, красиво выгоревшими на солнце волосами, живым выраженьем лица — и что произошло несколько испуганное удивление. В силу чего? Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал (как посторонний) свою привлекательность, — в этом открытии было, неизвестно почему, даже что-то грустное, — свой уже довольно высокий рост, свою худощавость и свое живое, осмысленное выраженье: внезапно увидал, одним словом, что я уже не ребенок, смутно почувствовал, что в жизни моей наступил какой-то перелом и, может быть, к худшему…