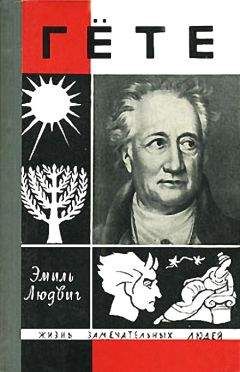Борис Зайцев - Том 5. Жизнь Тургенева
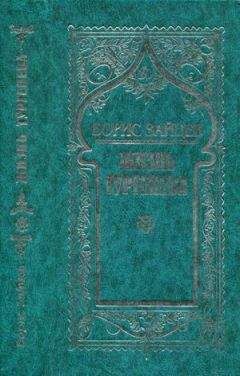
Помощь проекту
Том 5. Жизнь Тургенева читать книгу онлайн
Далекий холод и парадность Сергея Николаевича, причудливая карамазовщина Варвары Петровны (тяжкое детство, некрасота, властолюбие, раз навсегда обиженность) – из этой смеси родился букет Спасского. Некоторые черты его почти фантастичны. Другие мрачно жестоки.
Хотелось, чтобы все было грандиозно, чтобы походило на «двор». Слуги называются министрами. Дворецкий – министр двора, ему дали даже фамилию тогдашнего шефа жандармов – Бенкендорфа. Мальчишка лет четырнадцати, заведовавший почтой, назывался министром почт, компаньонки и женская прислуга – гофмейстерины, камер-фрейлины, и пр. Существовал известный церемониал обращения с барыней: не сразу министр двора мог начинать, например, с ней разговор. Она сама должна была дать знак разрешения.
За почтой посылали ежедневно верхового во Мценск. Но не сразу, не просто можно отдать эти письма. Варвара Петровна всегда отличалась нервностью (падение ножниц приводило ее в такое волнение, что приходилось подавать флакон со спиртом). Министр двора разбирал письма и смотрел, нет ли какого с траурной печатью. Смотря по содержанию почты, дворовый флейтист играл мелодию веселую или печальную, подготовляя барыню к готовящимся впечатлениям.
Постороннему, особенно неименитому лицу не так легко было и въехать в Спасское. Еще не знаешь, въехав, куда попадаешь! Но «двор» знал. Прямо подъезжать к дому, с колокольчиками, мог исправник. А становые отвязывали их за версту, за полторы, чтобы не беспокоить барыню. Уездный лекарь мог подъезжать только ко флигелю.
Все это еще безобидно, хотя и болезненно. Бывало и много хуже. За не так поданную чашку, за нестертую пыль со столика горничных ссылали на скотный двор или в дальние деревни – на тяжелую работу. За сорванный кем-то тюльпан в цветнике секли подряд всех садовников. За недостаточно почтительный поклон барыне можно было угодить в солдаты (по тем временам равнялось каторге).
Тургенев-дитя, Тургенев времен Спасского знал уже многое о жизни. Кроме пения птиц в парке да волнующего звона стихов, слышал и вопли с конюшен, и по себе знал, что такое «наказание». Всякие деревенские друзья-сверстники подробно доносили, кому забрили лоб, кого ссылают, кого как драли. Не в оранжерее рос он. И нельзя сказать, чтобы образ правления Варвары Петровны приближал к ней ребенка, в котором жил уже бродильный грибок. Мать растила не только далекого себе сына, но и довольно устойчивого, неукоснительного врага того жизненного склада, которого страстной носительницей была сама.
Отрок и юноша
В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, купив дом на Самотеке. Летом выезжали и в имение: связь с деревней не прерывалась.
В это время Сергей Николаевич заболел каменной болезнью, и для лечения ему и Варваре Петровне пришлось отправиться в Париж, быть в Эмсе и Франкфурте.
Иван остался в Москве, в пансионе Вейденгаммера (а старшего сына Николая отдали в артиллерийское училище в Петербурге). У Вейденгаммера провел Иван года полтора, потом на несколько месяцев попал в армянский пансион (впоследствии Лазаревский институт восточных языков) и, наконец, оказался еще в новом, у Краузе.
Его можно представить себе изящным и благовоспитанным мальчиком, хорошо учившимся, несколько чувствительным и нелишенным высокомерия. Неудивительно, если он тяготеет к аристократическим знакомствам в пансионе, к князьям и графам.
Столь же неудивительно, что с глубоким вниманием слушает пересказ гувернером «Юрия Милославского», восхищается им, помнит наизусть и бросается даже бить товарища, помешавшего слушать. Так же понятно, что Тургенев-пансионер, увидев после игры в лапту, во дворе под кустом сирени скромного юношу с немецкой книгой, мог не без надменности спросить: «А вы читаете по-немецки?» И когда оказалось, что тот не только читает, но и гораздо лучше его самого, и любит поэзию – то с ним-то как раз барчук, дороживший светскими друзьями, и сошелся. Мало того, просто подпал под его влияние.
С пансиона идет начало тургеневских юношеских дружб, отмеченных восторженностью, не надолго удерживавшихся, но возникавших всегда на почве «высшего»: томлений по красоте, истине, пытания загадок мира и т. п. Это было вообще время романтических привязанностей, раскрытия душ, откровенностей, заходивших иногда очень далеко. Можно и улыбнуться на такую «патетическую болтовню», кончавшуюся иногда тем, что прежние друзья становились смертельными врагами. Но не всегда так бывало. Случалось и надолго сохранить память о чудесном пламени молодости, да и само такое пламя разве уж не имеет никакой цены? Разве плохо – сладостно волноваться, когда «друг» читает вслух стихи? (Теперь уже Шиллера, не Хераскова.) Разве плохо – выйти потихоньку с ним ночью в пансионский сад, когда все уж заснули, сесть под тем же кустом сирени, где впервые они познакомились, и который полюбили, ощущать дуновение ночного ветерка, сквозь листву видеть милое московское небо в звездах (с Арктуром, зацепившимся за крест соседней церковки), шептаться, мечтать… А когда друг, взглянув на небо, «тихо» восклицает:
Над нами
Небо с вечными звездами
А над звездами их Творец…
– вновь испытать «благоговейный» трепет и «припасть» к плечу?
Однако отрок Тургенев приближался к возрасту, когда другое начинало волновать его. Романтические дружбы пришли и ушли с юностью. Любовь, поклонение женщине наполнили всю его жизнь, сопровождали до могилы.
В ранней молодости любовь предстала Тургеневу сразу в двух видах. Афродиту-Пандемос и Афродиту-Уранию он познал почти одновременно – явились они раздельно, и так разделенными остались навсегда.
«Простонародная» Афродита связана с крепостным бытом и укладом. («Помещичье» вкушение от древа познания.) У Варвары Петровны служила горничная, «красивая, с глупым видом», и глупость эта придавала ей нечто «величавое». Разумеется, она была старше и опытнее его – ему исполнилось тогда пятнадцать лет. Он приехал в Спасское на каникулы.
Полный сил юноша бродил однажды в сыроватый весенний день в парке. Близились сумерки. Дрозды перепархивали в яблонях. Иволга заливалась. Березы спасской рощи были в зеленом, клейком пуху. Афродита предстала ему со своим «глупо-величавым» видом. Его раба, крепостная. Но и властительница. Она взяла его за волосы на затылке и сказала:
– Пойдем.
А вечером, в непроглядную темень, он крался к ней на свидание, в пустую, заброшенную хату. Перелезал через канавы, падал в крапиву, пробирался по меже с горькою серебряной полынью, под теплым, накрапывавшим дождичком, от которого так зеленеют всходы. Сова кричала в парке. Может быть, и Сергей Николаевич отдавался той же ночью зову любви.
В жизни Тургенева-сына этот опыт не оставил следа. Исчезла деревенская богиня! Даже имени ее не сохранилось.
Первая истинная его влюбленность прославлена им же самим. Испытав полуребенком чувства высокие и блаженно-мучительные, в зрелости создал он из них лучшее свое произведение. Толстой и Достоевский могут завидовать «Первой любви» – явлению Афродиты-Урании в жизни пятнадцатилетнего юноши.
Повесть известна. С детских лет видишь и как бы насквозь знаешь парк с домом Зинаиды, соседки по даче с Тургеневыми в Нескучном (под Москвою). И ее самое знаешь, всегда в таинственной прелести, в печали и ослеплении любви, и мучительно-сладкую любовь мальчика – его мечтания, надежды, слезы, ревность, подозрения. В судьбе Тургенева-сына важно, что первая же его встреча с истинной любовью была встреча безответная. «Неразделенная любовь» – так началась жизнь изящнейшего, умнейшего, очень красивого человека и великого художника.
Ему предпочли другого. В загадочно-волнующем впечатлении, остающемся от этой истории, имеет большое значение, что «другой» оказался отцом.
Сергей Николаевич Тургенев появляется здесь портретно. Сын-писатель не возненавидел отца. Наоборот, был им побежден, изображает почти влюбленно. Такому сопернику не грех уступить. Это не есть победа ничтожества. Как легко ходит отец, как он изящно одевается, как он «изысканно-спокоен», холоден и нежен, как замечательно ездит верхом… И он умеет хотеть! Когда хочет, ни пред чем не останавливается. «Я таких любить не могу, – говорит Зинаида, – на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил». Мог ли сломить ее мечтательный мальчик, благоговевший пред отцом и боявшийся его? Он все мечтал, мечтал… а тот действовал.
Тургенев-отец вложил в этот роман всю силу натуры. Соседка не была для него лишь приключением. Он завоевал ее, взял, но и сам много поставил на карту. Оттенок трагедии сразу лег на их любовь. Пронзительна знаменитая сцена прогулки верхом у Крымского брода, когда Зинаида сошлась уже с отцом и живет в маленьком мещанском домике. (Сыну надоело стеречь лошадей и он подсматривает Зинаиду и отца, который, стоя у окошка домика, где сидит Зинаида, разговаривает с нею, ссорится и ударяет хлыстом по обнаженной ее руке. Она целует этот рубец. Отец в ярости врывается в домик.)