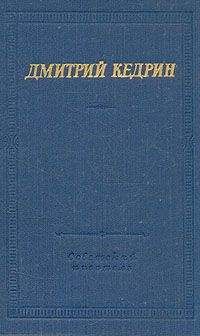Константин Аксаков - Три критические статьи г-на Имрек

Помощь проекту
Три критические статьи г-на Имрек читать книгу онлайн
Можно бы сюда отнести и стихотворение г. Некрасова "В дороге"; оно было бы очень хорошо, если б не было мелочных подделок под русскую речь, как-то: _тот, эта_ и _эти_.
Вот все, что есть замечательного в "Петербургском сборнике".
О переводе "Макбета" мы не говорим; об этом надо говорить много и не в числе других произведений. Благодарим г. Кронеберга [22] за труд его.
Все остальное нечто иное, как балласт, годный для той здоровой толщины, по выражению "Отеч‹ественных› Зап‹исок›", о которой так хлопочут петербургские литераторы.
Приступим к разбору и этого хлама.
Первое произведение, следующее за повестью г. Достоевского, есть "Помещик" г. Тургенева. О г. Тургенев! Нельзя сказать, чтоб он не совершенствовался: он был плох в первом произведении своем [23], подавал и в нем надежды, и оправдал их; он пишет постоянно плоше и плоше. Но что сказать о его "Помещике"? Здесь он превзошел немалые ожидания. Это произведение так уж плохо, такой вздор; так жалко желание острить; так смешно какое-то чувство будто бы превосходства при описании выставляемых им в карикатуре лиц, что лучшая критика: прочесть самое произведение. Нельзя однако же не выписать хоть чего-нибудь. Вот описание уездного бала:
Вообразите вереницу
Широких лиц, больших носов,
Улыбок томных, башмаков
Козлиных, лент и платьев белых,
Турбанов, перьев, плеч дебелых,
Зеленых, серых, карих глаз,
Румяных губ и… и так дале -
Заставьте барынь кушать квас -
И знайте, вы на русском бале
(стр. 188).
Каково! "Сейчас можно видеть столичную штучку", — сказала бы наверно Анна Андреевна в "Ревизоре". Вообще в петербургских литераторах видно чувство аристократическое перед всем, что не Петербург, чувство превосходства, похожее на аристократическое чувство, как бы сказать… людей служебных перед простыми крестьянами.
Г. Тургенев оканчивает свой рассказ, говоря:
Но весело сказать себе:
Конец мучительной гоньбе
За рифмами… придумать строчку
Последнюю, поставить точку,
Подняться медленно, легко
Вздохнуть, с чернилами проститься —
И перед вами глубоко,
О мой читатель, поклониться!
Неужели в самом деле? Нет! напрасная надежда: в этом же сборнике еще встречается имя г. Тургенева.
За г. Тургеневым следуют "Капризы и раздумье" г. Искандера, о которых мы уже сказали. За ними же "Парижские увеселения" г. Панаева [24]. Вот еще писатель в роде г. Тургенева, с большим притязанием на юмор, он выставляет здесь парижскую чернь, гризеток и т. п. Рассказ его имеет некоторый довольно, впрочем, ничтожный интерес; но когда он сколько-нибудь поднимается выше своего рассказа, когда он пускается в рассуждения, в юмор, думает острить — все это выходит в высочайшей степени пошло. Он и г. Тургенев имеют то сходство, что оба желают выставлять в произведениях своих лица, возбуждающие юмор; но в том и в другом произведении единственное лицо, возбуждающее юмор, — сам автор. Таким образом они, если угодно, достигают своей цели {Мы должны указать на появившийся в 1 № "Современника" превосходный рассказ г. Тургенева "Хорь и Калиныч". Вот что значит прикоснуться к земле и к народу: вмиг дается сила! Пока г. Тургенев толковал о своих скучных любвях, да разных апатиях, о своем эгоизме, — все выходило вяло и бесталанно; но он прикоснулся к народу, прикоснулся к нему с участием и сочувствием, и посмотрите, как хорош его рассказ! Талант, таившийся в сочинителе, скрывавшийся во все время, пока он силился уверить других и себя в отвлеченных и потому небывалых состояниях души, этот талант вмиг обнаружился и как сильно и прекрасно, когда он заговорил о другом. Все отдадут ему справедливость: по крайней мере, мы спешим сделать это. Дай бог г. Тургеневу продолжать по этой дороге!}.
Вот "Мартингал", повесть г. Одоевского, Г. Одоевский любит иногда пошутить в своих повестях, да, кажется, он любит подшутить и над читателями; по крайней мере, нельзя объяснить этой повести иначе, как шуткою над читателями, которые прочтут повесть и не найдут в ней ровно ничего.
С неприятным и грустным чувством прочли мы поэму [25] г. Майкова. Не того мы ожидали от него, прочитавши в прошлом году вышедшую поэму его под названием "Две судьбы". Кстати, поговорим о ней, и прежде всего напомним ее содержание. Нинета, итальянка, любит с детства итальянца Карлино, не понимая, что эта любовь — дружба. В Италии в это время путешествует русский Владимир, как водится, с бледным челом, с подавленными страстями, — одним словом, человек знакомый. Он приходит к Карлино, любуется им и Нинетою, говорит, что он желал бы быть на месте Карлино, был бы счастлив… Нина почувствовала вдруг, что ее любовь к Карлино есть только привычка, что он с детства был ей братом. Она начинает любить Владимира. Страсть ее усиливается, когда Владимир раскрывает ей свою душу, разочарованную в новом, и тоже отчасти Лермонтовском, роде. Нина любит: так хотел представить сочинитель; но в любви ее есть рассуждение, есть мысль помирить его с существованием; нам кажется это уже не цельным чувством; хотя это желание и может привязываться к любви, но со стороны. Владимир узнает о чувстве Нины и хочет ехать, чтобы не смущать ее более. Она приходит больная к нему, решается следовать за ним в Россию; является Карлино, завязывается ссора; Карлино убивает Нину, зовет народ и обвиняет Владимира в убийстве. Его берут. Через неизвестно сколько времени Владимир в России, живет в деревне и отличный гастроном; из журнала узнает он, что Карлино, атаман разбойников, пойман и приговорен к смертной казни; Владимир сравнивает свою судьбу с его судьбой; говорит: "Чем же лучше я" и потом объявляет Павлушке:
За ужином я гуся буду есть,
Да сыр. В еде спасенье только есть.
Завязка, содержание — пустое. Но в этом произведении есть мысль или намерение сказать мысль, которая, конечно, выразилась нисколько не художественна, но на которую стоит обратить внимание. Россия и западное образование, этот неизбежный вопрос, является и здесь. Владимир — русский; он так же, как и другие, увлечен и проникнут Западом. Но он вместе человек живой; в нем видна, убегающая от всех теорий, любовь к русской земле. Сверх того, и мысль его смущена ее прошедшим, полным жизни (по его собственному признанию). Недоумение это есть большой шаг к истине. Он сравнивает древнюю Русь с настоящим нашим поколением и удивляется страшной разнице, страшной апатии, царствующей между нами. Он не решает вопроса. Что в нашем поколении есть апатия — это правда; но понятна тому причина. Такою апатией и бледностью, таким жалким эгоизмом, — с одной стороны, животным и бесчувственным, с другой — идеальным, сухим, иногда тоже довольным красивого своею позою, иногда, у более живых людей, возмущаемым чрез сомнение, вопрос, желание чего-то лучшего, — этою апатиею и эгоизмом казнятся люди русские за презрение к народной жизни, за оторванность от русской земли, за аристократическую гордость просвещения, за исключительность присвоенного права называть себя настоящим и отодвигать в прошедшее всю остальную Русь. Спесивое невежество противополагают они всей древней, всей остальной, и прежней и нынешней, Руси, — гордость учеников, ставящих себя в свою очередь в учители. Мы похожи на растения, обнажившие от почвы свои корни; мы сохнем и вянем. Но нас спасает глубокая сущность русского народа, и тот виноват сам, кто не обратится к ней. Владимир у г. Майкова задумывается и любит Русь, — и вот почему мы отличаем это произведение от других. Как скоро чувство истинно, как скоро оно свободно от авторитета, оно найдет истинную дорогу и возвратится из отвлеченности эгоизма к жизни живой, народной. Прибавим, что только эта дорога может спасти от катастрофы гуся и сыра, которою оканчивается поэма г. Майкова.
Несмотря на то, что между прекрасными стихами встречаются в ней и плохие, что в самых мелочах обнаруживается часто незнание русского быта (наприм‹ер›, _костоломный пар_ — противно пословице, пристяжные в беговых дрожках и проч.); хотя видно, что идея народности для г. Майкова совсем не ясна, ибо он полагает ее, между прочим, в предпочтении Казанского собора храму св. Петра [26] и поэтому боится в ней исключительности, и боится напрасно, ибо эта исключительность ей не свойственна и не принадлежит; — несмотря на все это, мы видели в этой поэме зародыш многого прекрасного; в ней затрагивались серьезные вопросы. Далеко не оправдал г. Майков надежд, которые мы на него полагали: его поэма в "Петерб‹ургском› сборнике" представляет не более как вялый, избитый стих и такое же содержание. Есть несколько поэтических стихов; вот они:
Василий Тихоныч открыл окошко
Другое в сад — и ветерок с кустов,
Как мальчик милый, но шалун немножко,
Его тихонько ждавший меж цветов,
Пахнул в лицо ему, в покой прорвался,
Сор по полу и легкий пух погнал,
На столике в бумагах пошептал
И в комнате соседней потерялся.
(стр. 397) И только. Все остальное скучно и вяло, Г. Майков становится в ряд скучных стихотворцев, пожалуй даже таких, каков! знаменитый уже в этом роде г. Тургенев.