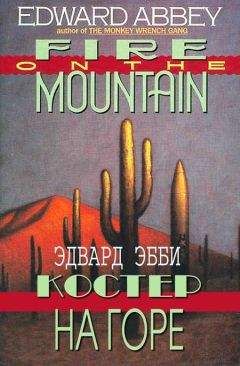Викентий Вересаев - "Человек проклят" (О Достоевском)

Помощь проекту
"Человек проклят" (О Достоевском) читать книгу онлайн
Дуня бросает револьвер.
«— Так не любишь? — тихо спросил Свидригайлов. — И… не можешь? Никогда? — с отчаянием прошептал он».
Мгновение «ужасной, немой борьбы». Свидригайлов отходит к окну, не глядя, кладет на стол ключ от выхода.
«— Берите, уходите скорей!.. Скорей!»
«В этом „скорей“ прозвучала страшная нота. Дуня бросилась к дверям.
Странная улыбка искривила лицо Свидригайлова, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния».
Да, Свидригайлов вправе был смеяться над Раскольниковым, видевшим в нем какой-то «исход». Это он-то исход! В душе корчатся и бьются два живых, равновластных хозяина, ничем между собою не связанных. Каждому из них тесно, и ни один не может развернуться, потому что другой мешает. Сам не в силах жить, и не дает жить другому.
«Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь, — в ужасе говорит Версилов. — Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь, и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, бог знает, зачем, т. е. как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил, хотите».
«Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут, — говорит Дмитрий Карамазов. Перенести я не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит! Нет, широк человек, слишком даже широк! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она сидит для огромного большинства людей».
Дело, оказывается, много сложнее, чем казалось раньше. Суть не в том, что какая-то воображаемая черта мешает «самостоятельному хотению» единой человеческой души. Суть в том, что черта эта вовсе не воображаемая. Она глубоким разрезом рассекает надвое саму душу человека, а с нею вместе и «самостоятельное хотение».
Старец Зосима говорит Ивану Карамазову:
«Если вопрос для вас не может решиться в положительную сторону, то никогда не решится и в отрицательную, сами знаете: это свойство вашего сердца».
То же говорит и Раскольников Дуне, приравнивая ее себе:
«И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, — несчастна будешь, а перешагнешь, — может, еще несчастнее будешь».
Быть самим собою, свободно проявлять самостоятельное свое хотение — это для Достоевского самая желанная, но и самая невозможная, самая неосуществимая мечта. Горит костер, на костре глыба льда. Скажи этой смеси: «будь сама собою!» Огонь растопит лед, растаявший лед потушит огонь, не будет ни огня, ни льда, а будет зловонная, чадящая слякоть. Будет Свидригайлов, Версилов, Дмитрий Карамазов.
«Ну, попробуйте, — пишет подпольный человек, — ну, дайте нам, например, побольше самостоятельности, развяжите любому из нас руки, расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы… Да уверяю же вас: мы тотчас же попросимся обратно в опеку!»
В опеку ли зла, как дьяволовы подвижники, в опеку ли добра, как Алеша Карамазов, — это безразлично. Только бы прочь от свободы, только бы поскорее связать разваливающуюся душу каким бы то ни было долгом.
«Ничего и никогда не было для человека невыносимее свободы! — говорит Великий Инквизитор. — Они — бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие… Чем виноваты слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?
Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..» Как жалко, как надсадно звучит теперь этот буйный призыв! Он превращается в скорбный вопль Кириллова:
«Я только бог поневоле, и я несчастен, ибо я обязан заявить своеволие. Все несчастны потому, что все боятся заявлять своеволие… Я ужасно несчастен, ибо я ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека… Но я заявляю своеволие. Только это одно спасет всех людей».
Но уже нет веры ни в осуществимость своеволия, ни в его спасительность. Боец бьется не за победу, а только за то, чтобы погибнуть со знаменем в руке.
Как будто гигантский молот непрерывно бьет перед нами по жизни и дробит ее на все более мелкие куски. Не только люди одиноки в мире. Не только человек одинок среди людей. Сама душа человека разбита в куски, и каждый кусок одинок. Жизнь — это хаотическая груда разъединенных, ничем между собой не связанных обломков.
IX
Любовь — страдание
Из темных углов, из «смрадных переулков» приходят женщины — грозные и несчастные, с издерганными душами, обольстительные, как горячие сновидения юноши. Страстно, как в сновидении, тянутся к ним издерганные мужчины. И начинаются болезненные, кошмарные конвульсии, которые у Достоевского называются любовью.
Глубокое отъединение, глубокая вражда лежит между мужчиною и женщиною. В душах — любовь к мучительству и мученичеству, жажда власти и жажда унижения, — всё, кроме способности к слиянному общению с жизнью. Душа как будто заклята злым колдуном. Горячо и нежно загораются в ней светлые огоньки любви, но наружу они вырываются лишь темными взрывами исступленной ненависти. Высшее счастье любви — это мучить и терзать любимое существо.
«Любовь, — пишет подпольный человек, — любовь-то и заключается в добровольно дарованном от любимого предмета праве над ним тиранствовать».
В «Униженных и оскорбленных» Наташа «инстинктивно чувствовала, что будет госпожой князя, владычицей, что он будет даже жертвой ее. Она предвкушала наслаждение любить без памяти и мучить до боли того, кого любишь, именно за то, что любишь, и потому-то, может быть, и поспешила отдаться ему в жертву первая».
Если у Достоевского мужчина ненавидит женщину или женщина мужчину, то читатель должен заключить, что они любят. И чем жесточе ненависть, тем это несомненнее.
«— Но какая же ненависть! Какая ненависть! — восклицает Подросток про Версилова. — И за что, за что? К женщине! Что она ему такое сделала?
— „Не-на-висть!“ — с яростной насмешкой передразнила меня Татьяна Павловна».
Ненависть — любовь, любовь — ненависть…
«Неужели он до такой степени ее любит? — думает Подросток. — Или до такой степени ее ненавидит? Я не знаю, а знает ли он сам-то?»
Князь Мышкин говорит Рогожину: «Твою любовь от злости не отличишь». И Маврикий Николаевич говорит Ставрогину про Лизу: «Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает самая искренняя безмерная любовь и — безумие! Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть — самая великая!»
В «Египетских ночах» Пушкина Клеопатра вызывает желающих купить ее любовь ценою казни на следующее утро. Достоевский по этому поводу вспоминает о «сладострастии насекомых, сладострастии пауковой самки, съедающей своего самца». О «сладострастии насекомых» нередко вспоминает он и по поводу любви собственных своих героев.
Если припустить к куриной семье новую курицу, петух немедленно берет ее под свое покровительство. Он заботливо подзывает ее к пище, не дает обижать другим курам. Если она убежит, он отыскивает ее и ведет назад, и нежно что-то говорит ей на их языке: «ко-о!.. ко-о!..» Удивительно и трогательно, до чего доходит эта заботливость. На ночь петух сажает новую свою подругу на самый край нашести, сам садится рядом и таким образом заслоняет ее от клевков старых кур. Когда курице приходит время нестись, петух ведет ее к кошелке, где несутся куры, впрыгивает в кошелку, садится, опять выходит, обхаживает курицу, всё время «ко-о! ко-о!» и водворяет ее в кошелку.
Но в низах животной жизни любовь часто уродлива и страшна. У жаб и лягушек самка вываливается из жестоко-страстных объятий самца с продырявленною грудною клеткою, с поврежденными внутренностями, нередко мертвою. Паук подползает к самке с ласками, а она бросается на него и пожирает; или подпустит к себе, отдастся его объятиям, а потом схватит и сожрет.
Жабы и паучихи навряд ли, конечно, испытывают при этом какое-нибудь особенное сладострастие. Тут просто тупость жизнеощущения, неспособность выйти за пределы собственного существа. Но если инстинкты этих уродов животной жизни сидят в человеке, если чудовищные противоречия этой любви освещены сознанием, то получается то едкое, опьяняющее сладострастие, которым живет любовь Достоевского.
Страсть сливается уже не с тупым равнодушием к мукам и гибели любимого существа, а с ненавистью к любимому, с желанием его мук и гибели.
«Я вас истреблю!» — говорит Версилов Катерине Николаевне. Князь Мышкин, только что познакомившись с Рогожиным, из одного лишь общего впечатления от него выносит уверенность, что если он женится на любимой женщине, то через неделю зарежет ее.