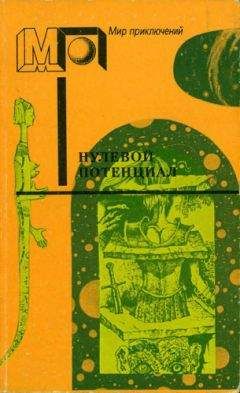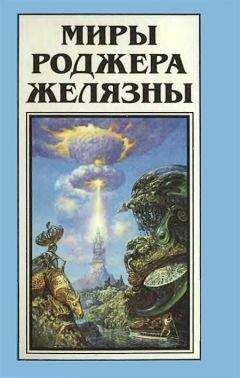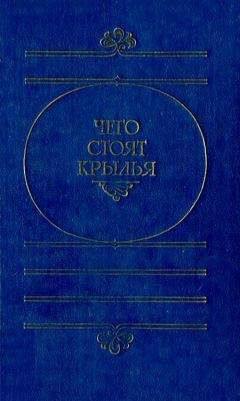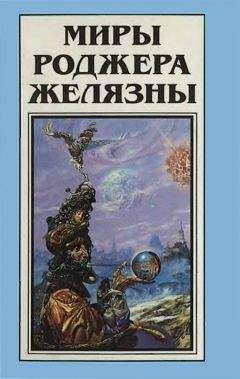Давид Самойлов - Памятные записки (сборник)
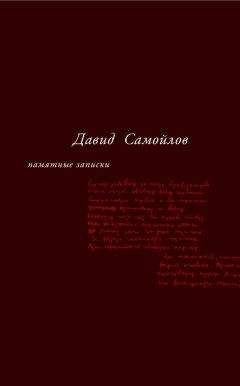
Помощь проекту
Памятные записки (сборник) читать книгу онлайн
Непонятно было мне тогда (отметим значимый переход от множественного числа к единственному, Самойлов предпочитает говорить о своей, а не об общей ошибке. – А. Н.), что на этот вечер привели их высокие чаяния, надежда, что мы, прошедшие войну, вернулись оттуда преображенными и в сознании своего достоинства сумеем осуществить порыв к свободе». Не сумели. Ни тогда, ни позднее – об этом и не переставал размышлять Самойлов. Провал так называемого поэтического «ренессанса» середины 1950-х был для него закономерным следствием прежнего недомыслия (духовной незрелости). «Ортодоксальный идеализм оказался исторически бесперспективным. Через несколько лет выяснилось, что истинными носителями гражданского духа, подлинными нравственными авторитетами явились наименее “политические” фигуры нашей литературы – Пастернак и Ахматова <…> Чем более развенчивались идеи государства, власти, партии, тем внимательнее прислушивалось общество к чистому голосу совести, к голосу силы и слабости, к голосу нравственности – к Ахматовой и Пастернаку». Эта – оставшаяся для Самойлова неколебимой – формулировка возникает в главе с узнаваемым герценовским названием – «Литература и общественное движение 50—60-х годов», истории самообмана литераторов нескольких поколений, что в конечном счете обернулся их общим поражением.
Здесь, однако, необходимо сделать сильную оговорку. Сколь ни суровы весьма многие суждения Самойлова о собратьях по цеху, признать их не подлежащими обжалованию приговорами невозможно. 4 апреля 1974 года Самойлов заносит в дневник перечень «новых глав» своего повествования: «Мечи на орала», «Московская Албания». Сельвинский. «Лица» (Вишневский, Тихонов). Глазков. «Прибитые страхом» (Светлов, Мартынов, Соболь, Межиров)» (II, 76). Черная тень последнего потенциального заголовка ложится на все предшествующие, сквозная тема глав, посвященных послевоенным годам, – страх и его неизживаемые следствия. «Московскую Албанию» (за комическим названием кроется ощутимо зловещий смысл) Самойлов недописал. Главы о «лицах» (утративших лица, ставших персонами) и поэтах, «прибитых страхом», текстовой плоти не обрели. Портреты Сельвинского и Мартынова (в приложении читатель найдет их варианты) остались недописанными. Место задуманного очерка о Глазкове занял – шестью годами позже! – его некролог с ощутимыми этикетными приметами этого печального жанра. Самойлов не хотел лукавить, но и принимать на себя роль прокурора тоже не хотел.
Причиной тому отнюдь не человеческая приязнь. 30 июня 1981 года Самойлов грустно констатирует: «Мартынов умер, а я даже не записал об этом[29]. Мы не дружили. Все же он был поэт» (II, 143). Это все же дорогого стоит. Прибитый страхом Мартынов был поэт. И все его комплексы, ошибки, грехи, психологические маневры и многочисленные дурные, по инерции писавшиеся, стихи не могут отменить этого непреложного факта. Еще при его жизни (1976) Самойлов написал: «Чем более живу, тем более беспечной / Мне кажется луна и время быстротечней, / Томительнее страсть, острее боль обид, / Понятнее поэт Мартынов Леонид». Признание Самойлова удивило Л. К. Чуковскую: «…за строчку о Мартынове хочется устроить Вам сцену <…> Ну почему, ну зачем он становится Вам “понятнее”? Понятен-то он всегда, но, кажется мне, бездарен».
Самойлов не захотел спорить со своей постоянной корреспонденткой: «На “Мартынов Леонид” Вы напрасно сердитесь. Я думал, что само расположение слов выдает иронию. Не скажешь же: “Понятнее поэт Пастернак Борис”. Он же в первой строфе, где перечисляются явления, которые понять можно: с годами одно томительней, другое больнее и всего понятнее, что поэт Мартынов Леонид плох»[30]. Принять это толкование невозможно – особенно от поэта, что уже написал стихотворение «Шуберт Франц» и вскоре напишет «Дуэт для скрипки и альта», герой которого именуется «композитор Моцарт Вольфганг Амадей». В том и дело, что несчастный поэт Мартынов Леонид все понятнее (и вопреки здравому смыслу – ближе), что его боль и одиночество «рифмуются» с собственной тоской, что его душевное неустройство той же природы, что у тебя, движущегося к последней черте: «А больше ничего я здесь не понимаю, / Хоть вслушиваюсь в даль и целый день внимаю, / И всматриваюсь в шум, и слышу свет и тень, / И вижу звук и гул, и слепну каждый день».
То, что давалось в прощальных стихах (например, поминовениях Назыма Хикмета или Ярослава Смелякова), с трудом укладывалось в размышляющую прозу. Потому множились варианты одних «портретных» глав, а другие откладывались на потом (навсегда). Потому название очерка о Сергее Наровчатове (ср. его более жесткую редакцию в приложении) опровергает расхожее присловье: «Попытка воспоминаний» о нем – настоящая пытка. Потому и новая версия мемуара о Борисе Слуцком не была отдана в печать, хотя работа виделась Самойлову насущно необходимой и велась по договоренности с журналом[31].
В ряду напряженных и словно бы не до конца «прорисованных» портретных глав особого внимания заслуживает короткий этюд (страница с малым!) о вроде бы «чужом» Самойлову по всем статьям Семене Кирсанове, выросший из гротескной дневниковой зарисовки (одинокий стихотворец в баре ЦДЛ; запись от 10 февраля 1971; II, 49). Кирсанов «Памятных записок» жалок, неприятен, мелок, но при всем том остается поэтом – бедным, но Колумбом, бедным, но Магелланом. Как в тех двух его стихотворениях, что приворожили Самойлова, вспыхнули цитатами в его горько нежной миниатюре и отозвались в поминальных стихах. «В каждой вашей оговорке – / У кого их только нет! – / Вы оказывались зорки, / Недогадливый поэт». Недогадливый, ковавший «золотые пустяки», умерший «до кончины», но все равно поэт («На смерть кузнечика», 1974). Полтора десятилетия спустя Самойлову вновь потребовалось сказать об уходящем (давно уже ушедшем) Кирсанове: «Он, невнимательный к природе, / Вдруг вспомнил летние дожди, / Когда все было на исходе, / Когда все было позади <…> Со всех сторон хлестало, перло, / Блистало, грохало. И он / Вдохнул в истерзанное горло / Благоухающий озон. // От этих запаха и влаги / Легчало у него в груди, / Когда ложилось на бумаге / Про эти летние дожди» (1989). «Памятная записка» («маленькая трагедия», неотделимая от стихов) замечательно свидетельствует о том, сколь дорог Самойлову был любой поэт[32].
Отсюда внутренняя завершенность мемуаров о сверстниках, чьи судьбы были оборваны войной. Вне зависимости от меры их дара или славы павшие на ратном поле остались поэтами. (Лаконичное предисловие к подборке стихов и писем мало кому известного Ильи Лапшина, героя проникновенного, щемяще личного стихотворения «Памяти юноши», не менее весомо, чем детализированные воспоминания о ставших легендами Павле Когане и Михаиле Кульчицком.) Отсюда же торжественная ясность очерков о «последних гениях» – Заболоцком, Пастернаке, Ахматовой.
Они написаны по-разному. «День с Заболоцким» – точно и изысканно выстроенная высокая притча (подсвеченная написанным ранее стихотворением «Заболоцкий в Тарусе»); «Анна Андреевна» – обстоятельный, неспешный, хотя и сдобренный иронией, «правильный» мемуар (жанровый рисунок обусловлен как многолетним «подробным» общением Самойлова с Ахматовой, так и спецификой ее собственного торжественного и обдуманного жизнестроительства); «Предпоследний гений» – почти стихотворение в прозе[33]. Жанровые и стилистические различия лишь усиливают общую для трех текстов смысловую доминанту – речь идет о простом и несомненном величии старших поэтов, трудно постигаемом и осмысливаемом поэтом младшим. Во всех трех историях важны не только заглавные герои, но и их собеседник, будущий повествователь, а точнее – его взросление (переоценка вроде бы устоявшихся ценностей). Рассказывая о нелегком (во всех случаях!) приближении к правоте «последних гениев», Самойлов предъявляет читателю себя прежнего и – скорее все же вольно, чем невольно – объясняет, как он стал собой нынешним.
В этом отношении особенно примечателен очерк «Предпоследний гений», где Самойлов счел должным рассказать о временном разочаровании в обожаемом с отроческих лет Пастернаке и рассекретить свою обращенную к прежде любимому поэту жесткую инвективу[34]. По-пастернаковски стремительно летящая повесть о «первой любви», ее страшном сломе и медленном выздоровлении сущностно совершенно точна, но некоторые ее детали, мягко говоря, модифицируют вполне достоверные (проверяемые) факты. Первые приступы «разочарования» в Пастернаке (и страстного увлечения Хлебниковым) настигли Давида Кауфмана не в ИФЛИ, а еще на школьной скамье (о чем ясно говорят тогдашние дневниковые записи), однако они вовсе не привели к «разрыву»: Пастернак (наряду с Маяковским и Хлебниковым) оставался любимым (главным) поэтом для того кружка, что гордо именовался «поколением сорокового года». Гневное послание «Пастернаку» было написано не весной 1946 года (как следует из очерка), а в сентябре 1944-го, на фронте (о чем свидетельствует сохранившаяся рукописная тетрадь). В пастернаковском очерке минимализирован рассказ о послевоенном самоощущении Самойлова и его друзей-сверстников, весьма подробно представленный в других главах «Памятных записок», – акцент сделан не на причинах заблуждения, а на ошибке как таковой. О том, как стихотворение избежало печати, Самойлов повествует скороговоркой, стараясь представить этот эпизод не стоящей внимания мелочью (мол, хоть на это у меня ума и совести хватило): «После постановления Вишневский (главный редактор “Знамени”. – А. Н.) позвонил мне и предложил стихи опубликовать.