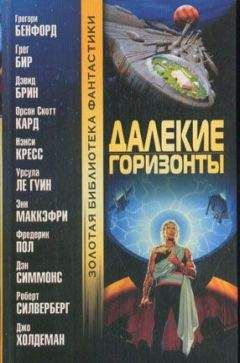Юрий Трифонов - Все московские повести (сборник)

Помощь проекту
Все московские повести (сборник) читать книгу онлайн
Роман Владимирович буравит пристально-улыбчиво сквозь толстые очки и все время указательным пальцем свое лицо, смуглое, арабское, теребит: то в ухе сверлит и что-то, пальцами скатав, на пол сбрасывает, то в ноздрю залезет, то губу трет.
– Вы бы рассказали, Павел Евграфович, коли уж нас случай свел… – Сунул палец в рот и ногтем в зубе колупается. – Хоть немного о Мигулине… Вы о нем материал собираете, как я слышал… Интереснейшая фигура! Если есть минутка свободная....
– Зачем вам?
– Слыхал о нем, читал кое-что. Было б прекрасно хоть немного…
Врет. Не слыхал, не читал, а с Руськиных слов.
– О Мигулине могу рассказывать долго. Но сын мой к такой беседе не располагает. Что с вами, Руслан Павлович? Вы белены объелись? Или человека убили?
– Рассказывай! – кивает мрачно. – Просят тебя…
Нет, язык не поворачивается, неохота, ни к чему это им. Они для другого приехали. Бубню что-то через силу, из вежливости, они слушают вроде бы внимательно, Роман Владимирович головой покачивает, приговаривает «так, так», а женщина подошла к стене и разглядывает портрет Гали. Летом после войны на речке. Долго глядит на портрет, не спрашивая ничего. Тогда, прервав рассказ, говорю:
– Хотите спросить о моей покойной жене? Спрашивайте, пожалуйста. Ведь вам нужно спросить.
Нарочно нажимаю на «нужно». Но те делают вид, что не заметили. Роман Владимирович вдруг:
– Ваша покойная жена тоже как-то связана была с Мигулиным?
Тут я его насквозь узрел. Никаких сомнений не осталось.
– Нет, – говорю, – ошибаетесь, дорогой мой.
– А вы сами, Павел Евграфович, не чувствуете ли, – указательным пальцем подперев очки на переносице, так что глаза будто выпрыгнули вперед, – какую-то, что ли, неосознанную, ничтожную, может быть, вину перед памятью Мигулина?
– Вину? – переспрашиваю. И чую, он меня опрокинул. В самое сердце холод вонзил. Зачем же спрашивает, негодяй? Вся сила из меня вышла, и я молчу.
Он извиняется, вскочил, руки к груди прижимает, побежал в другую комнату, чайник принес зачем-то старый, распаявшийся.
– Нет, милый доктор. Перед ним вины своей не чувствую. А перед всеми остальными – и перед вами – да, виноват…
– Чем виноваты, Павел Евграфович?
Объяснил как мог: тем, что истиной не делился. Хоронил для себя. А истина, как мне кажется, дорогой кандидат медицинских наук, ведь только тогда драгоценность, когда для всех. Если же только у тебя одного, под подушкой, как золото у Шейлока, тогда – тьфу, не стоит плевка. Вот почему мучаюсь на старости лет, ибо времени не остается. Не знаю, понял ли что-нибудь. Скорей всего – нет, хотя поддакивал «так, так», но во взоре, пристально-улыбчивом, сквозь очки, тот же холод. Скорей всего, сделал вывод, что опасения подтверждаются: старик несет околесную. Маниакально-депрессивный психоз на почве неясного чувства вины. Осложнено тоскою вдовца. Бедные ребята! Я им сочувствую, могу оценить тревогу, перепуг, то, что они кинулись к этим умникам, притворившимся дачниками, но все равно понять не могут.
– Ты не можешь понять, – шепчу, отозвав Руслана в соседнюю комнату и затворив дверь, – потому, что мы разные существа. Сорок лет назад, когда тебе было одиннадцать, а мне тридцать три, мы были ближе друг к другу, чем теперь. Потому что оставалось много времени. А теперь у тебя есть, у меня же нет ничего…
– Отец! – Он схватил мои руки, сжал их с силой. – Мы волнуемся, мы не хотим, чтоб ты жил один, чтобы ты уезжал… Ведь ты у нас замечательный… Таких людей, как ты…
Он прижимает меня к себе, как будто я мальчик в его руках, большой ладонью поглаживает мою голову, мою тощую шею, мою бессильную спину. Как я люблю его!
– Я вам прощаю, – говорю я. – Весь этот бред с докторами…
– Прости, отец! Мы хотели… Это друзья…
– Бог с вами. Все равно не можете понять.
– Не можем, отец! Не можем, не можем… Ты прав…
– Конечно, ведь нет же времени .
– Поэтому как хочешь… живи…
И я вижу на его глазах слезы. Через несколько дней он провожает меня на вокзал и сажает в вагон электрички, к окну. Я давно не ездил по железной дороге. Интересно смотреть на долго тянущиеся многоэтажные пригородные дома, они восхищают и пугают одновременно (где взять людей для такого множества домов?), на мокрые асфальтовые дороги, на хвосты автомобилей перед шлагбаумами, металлическое сверкание, свет фар среди бела дня, цветные зонты, на детей, бегущих под дождем с портфелями на голове, на дачные веранды, заборы, черноту деревьев, туманные луга, белую собачку, сидящую на вершине песчаной горы; и снова дома, дома, дома, бело-серо-блочно-громадное, не имеющее названия, небывалое, грозное, уходящее за горизонт. По вагону идет продавщица мороженого, и я покупаю снарядик в скользкой вафельной оболочке. Не так уж хочется есть мороженое, но все вокруг покупают снарядики и грызут, как мы когда-то грызли морковь на даче в Сиверской, воровали с чухонского огорода. Мама однажды сильно побила. Я возвращаюсь в Сиверскую. Темные серые заборы, сумеречное небо – ноябрьский день или белая июньская ночь? Я возвращаюсь пригородным поездом. В Питере все смутно, тревожно, каждую ночь стрельба, мама запрещает мне ехать вечерним поездом одному, недавно ограбили целый вагон. «Если задержался в городе, лучше переночуй дома и приезжай утром». Но нет терпения ждать! Я мечтаю хотя бы ночью, летними потемками пробежать мимо дачи, где на втором этаже окно Асиной комнаты всегда полуоткрыто, колеблется, как живое. Белое небо горит в стекле. Ася спит и не знает, что я бегу по песчаной дороге мимо. Но завтра я с нею увижусь утром. Вот почему не могу оставаться в Питере. Вафельный снарядик несъедобен. По вкусу он напоминает ледышки, которые я любил когда-то, в незапамятные времена, до Сиверской. В полдень автобус привозит меня в неизвестный город.
Какие-то люди ведут меня по тротуару, уложенному бетонными плитами. В зазорах между плитами чернеет хвоя. Ведут под руку, будто я беспомощный старец, могу на ровном месте упасть. Плиты мокрые, кое-где нерастаявший снег, ледяная корка, можно поскользнуться, но я иду осторожно. Не надо меня держать. Есть старики куда хуже, я еще ничего. «Вон там!» – говорит женщина, показывая на высокий дом среди сосен. Башня в двенадцать этажей. Женщина исчезает в дверях магазина. Оттуда выходят люди, неся стеклянные пивные кружки. Некоторые несут по три, по четыре. Один сделал из кружек гирлянду и повесил на шею. Удивительно вот что – я не испытываю никакого волнения! Мне просто хочется ее скорей увидеть, как можно скорее, для того чтобы что-то узнать . Человек живет вожделением, когда-то желал любви, удач, громадного дела, благополучия близких, теперь ничего, кроме единственного – узнать . Последняя страсть. Бог ты мой, что же у Аси узнать ? О чем спросить?
В лифте пахнет как в москательной лавке. На площадке двенадцатого этажа стою и смотрю вниз. Сосны, крыши домов, пегими пятнами снег, слюдяным изгибом блестит река, за которой хвойная даль, синева. Есть такие картины, написанные древними красками, их находят в подземных гробницах, в склепах, стоит к ним прикоснуться, и они рассыпаются. Но сердце колотится не от волнения, не от страха, что притронусь и рассыплются, а от предчувствия того, что предстоит узнать .
Меня по ошибке принимают за доктора. Минутная чепуха: пройдите сюда, вот полотенце, вырывают из рук портфель, мою драгоценность, и куда-то хотят отнести, но я не даю. Я говорю: «Дайте воды. Мне надо принять лекарство». И в разгар суматохи маленькая, в седых космочках старушка шасть из дверей, вся клонящаяся вперед, как бы гнутая навстречу, сухонькая, как кикимора, я вижу зеленоватое темя, мятую кожу, и в глазах – голубых, знакомых, Асиных – сияет ужас. Вокруг счастливое щебетание, плеск голосов, легкие руки, как ветви, обнимают меня. И сразу обо всем, о всех временах, о пятидесяти пяти годах. И о главном, о чем нужно до зарезу узнать. Вот что: зачем он выступил тогда на фронт? В августе девятнадцатого. Она должна знать. Никто в целом мире не знает, никого не осталось, кроме нее. Мумиевидная старушка глядит на меня сияющими глазами и странно моргает, подмигивает. «Тебе это важно?» – «О, да! Очень, очень!» – «Я понимаю, да, да…» Она кивает сочувственно, соболезнующе. И продолжает делать знаки глазами, ее губы складываются в таинственную полуулыбку. «Павел, я тебя так хорошо помню, дорогой мой…»
«Мне нужно знать истину!»
«Понимаю, да, да, – кивает старушка. – Понимаю, Павел. Ты не устал? Не хочешь прилечь? Я написала все, что могла. Больше я ничего не знаю». Входит молодая женщина и ставит на стол три стеклянные пивные кружки. Потом одну кружку водружает на буфет, наливает в нее воду и ставит в воду еловую ветку. Любуясь, оглядывает свою работу. Все время, пока женщина занимается кружкой и веткой, старушка делает мне знаки глазами. Постепенно старушка превращается в Асю. Я не замечаю седых космочек, морщинистых щек, вижу только издавна знакомые, скрытно и лукаво мигающие голубые глаза. Как тогда что-то сообщала втайне от взрослых, на Пятнадцатой линии. Женщина, шлепая тапками, уходит, и Ася шепчет в необыкновенном волнении: «Она не должна знать! Я потом объясню. Она догадывается, но мы не дадим ей козыри в руки».