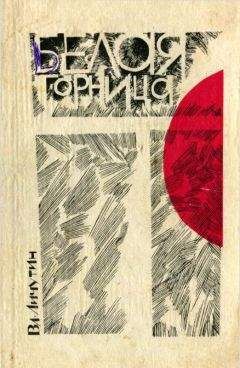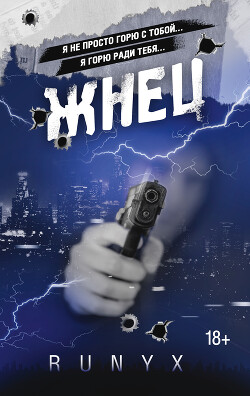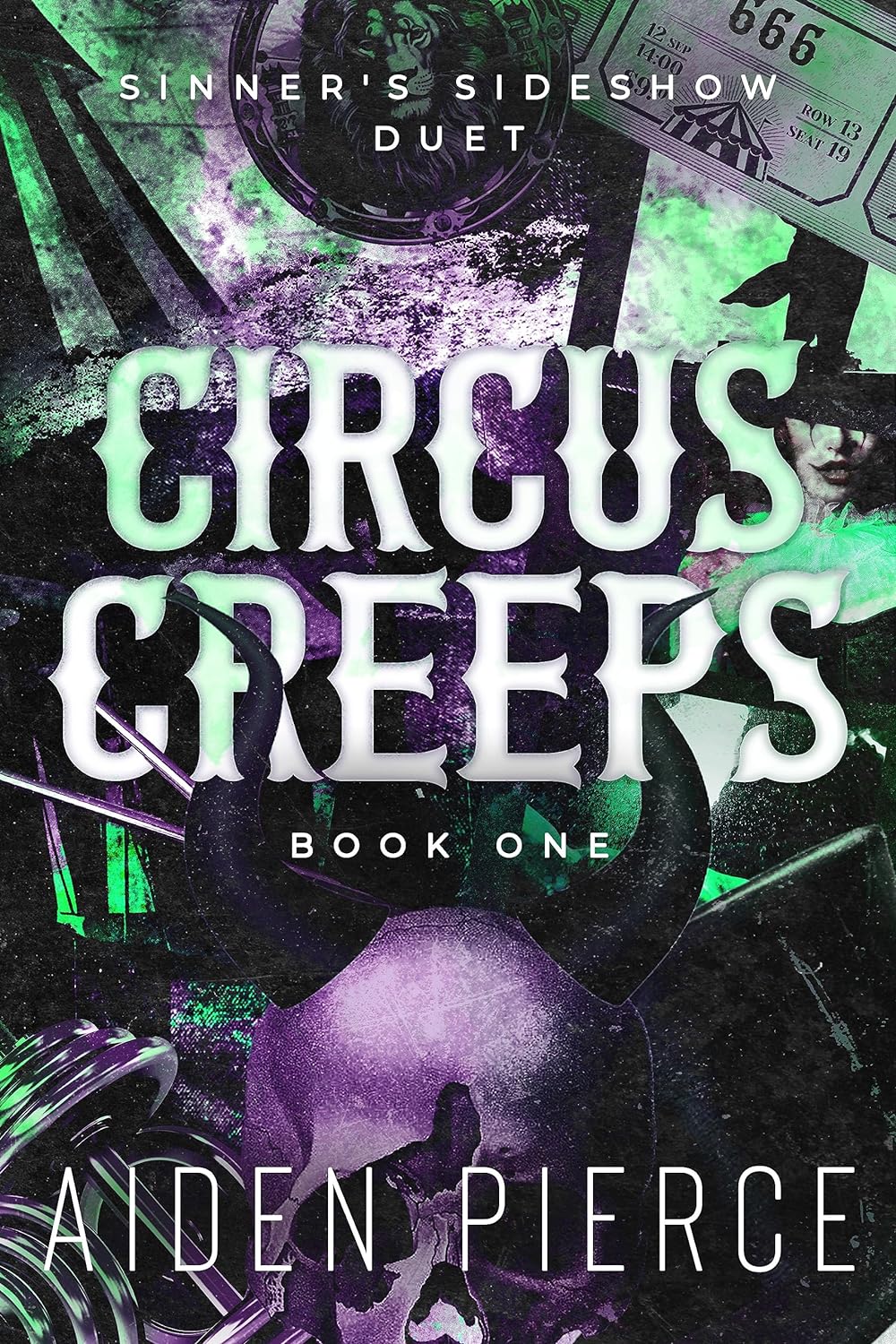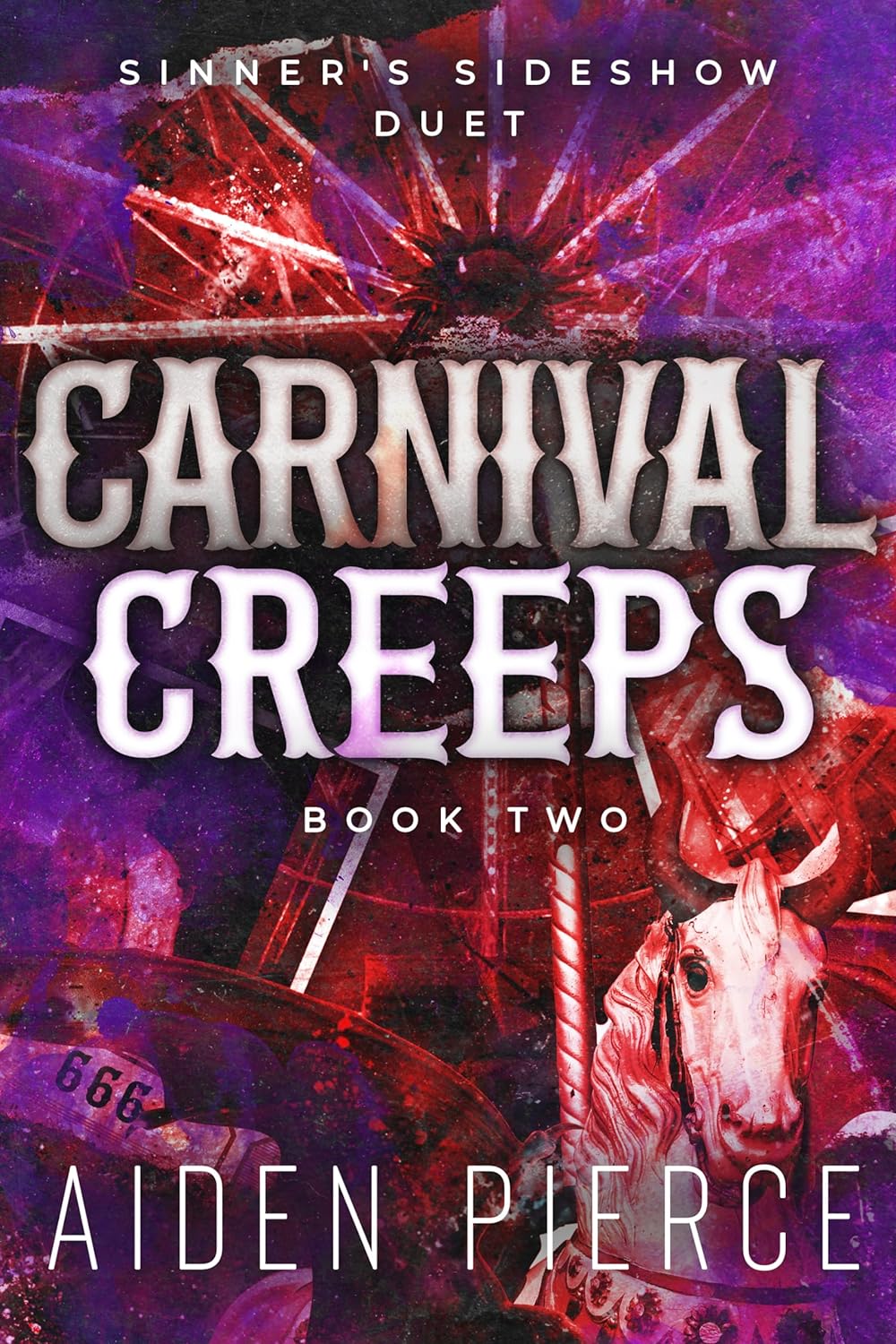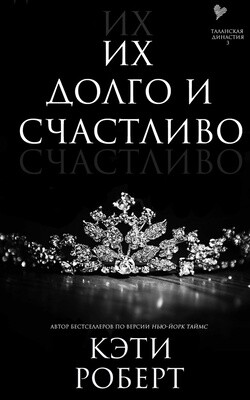Владимир Личутин - Вдова Нюра

Помощь проекту
Вдова Нюра читать книгу онлайн
– Больна, што ли? – спросила, однако, резко, тая жалость в душе и не выказывая ее. Золовка только пожала широкими оплывшими плечами.
– Опустилась-то вся… Ты, девка, прибери себя к рукам. Ишо не старая ведь. Ты што это, а? – накаляя голос, внушала Нюра. – Войне уж когда замирение, а ты все будто тамотки.
– А за коим теперь и жить? – тускло спросила Калиства, вернее, сказала вяло, но с настойчивым и решенным в душе желанием. – По жизни, дак будто век прожит.
– Это не тебе решать, да… Ты што это постановила? Ну сказывай, – гремела Нюра, но добиться чего-то разумного было трудно теперь от золовки, и невольно понизила голос: – Уф, парко у тебя. Я тоже намедни едва не околела. Да не суждено, знать, не мое время.
– Ни мужика, ни деточек, всех война забрала… Ну а ты-то как там? – равнодушно спросила Калиства, насильно отвлекаясь от постоянных раздумий. – И не скучно тебе в леси да одной?
– Какая, к лешему, скука? Летом травку сбираю, осенью ягоды, грибы ломаю, зимою опять зверя-птицу добываю. Из лесу-то и не вышел бы, так хорошо в ем.
– А без людей все одно не можешь, – раздраженно уколола Калиства, желая хоть чем-то ущемить Нюру, чтобы она горемычно заслезилась.
– Не могу, – согласно кивнула Питерка. – Раньше могла, а нынче не могу. Люди-то всё в мыслях нынь, и никак не отвяжешься.
– Осподи, каждый надрывается. Товарищ-то Сталин небось с войны надорвался. Тоже женочонка, детишки есть, ревут, татку всем жалко… Ой, Нюрушка, хоть бы одного сыночка бог сохранил мне! – Калиства заплакала неожиданно, но тут же засморкалась в передник и снова померкла, остыла, ушла в себя, что-то шевеля губами и забывая мгновенные слезы.
– А на што тебе Сталин-то дался? – снова вернулась Нюра к прежнему разговору, чтобы вывести золовку из забытья.
– Я об том, что детишки-то небось остались, ревут. Да-а… Сына твоего, Акимку, в том годе так и не нашли? Поди, сбег куда, сокрылся? – тускло спросила Калиства.
– Ты что, Каля… Ты чего мелешь-то? – растерялась Питерка. Недоуменная обида охватила старуху, но она сдержалась, не высказала затаенное, сломала гнев, только длинное лицо ее напряглось, и дольные морщины на щеках нервно заглубились. «Ой дура, ну и дура Калька», – подумала Нюра, не зная от растерянности, какое слово схватить, чтобы оно к месту пришлось и пристыдило золовку. Но ничего не придумала и корить не стала Калиству, но пристально вгляделась в нее долгим запоминающим взглядом.
– Я тебе тут куроптя принесла. Поешь дичинки…
Достала из лузана три птицы, мерзлые, с угольно-черными полуоткрытыми глазами, глядящими из-за поджатого крыла, кинула на стол, и куропти каменно стукнулись о доски. Потом, не прощаясь, пошла на выход, а Калиства вдруг кинулась следом, захватила подол малицы, запричитала жалобно и просяще:
– Прости меня, Нюрушка. Сглупа на худое мелю. Не кидай меня. Одна ты у меня надея. Ты придешь еще? Ну скажи чего ли, не томи…
– Ну буде, буде, ну што ты. Прибери себя к рукам. Как не навестить-то, осподи. – Порылась в лузане, достала еще трех куропаток, положила на табурет возле порога. – Аниське метила, хотела угостить, ну да ладно. У ей самой мужик охотник.
Сказала сурово, неотмякшим голосом и пошла прочь из избы.
8
Письмоноска доставила весточку в конце марта, а запопутьем еще передала просьбу Тони Капшаковой: та слезно просила Питерку прийти и помять в бане спину, скрючило так, что ни встать, ни сесть. Нюра пообещала навестить Тоньку, на слова письмоноски, рябой басовитой девки, только кивала согласно головой и поддакивала, а сама неотступно крутила треугольник из серой оберточной бумаги, залепленный хлебным мякишем, и не могла понять, откуда письмо, потому что обратного адреса не было. Когда почтальонка ушла, Нюра вскрыла треугольник, глянула сразу в дальний конец бумаги и прочитала надпись: Нечаевы…
Письмо было накарябано химическим карандашом на плохой бумаге, и потому Нюра проглядела его с трудом, по слогам, часто запинаясь и мучительно морщась, пока не доходя до смысла:
«… Ты ведь старая старуха, дак не сходи с ума людей не смеши. Ведь когда овдовела ты мужику моему тринадцатый годок шел. А ты чего пишешь, чего пишешь, страшна кокора. Ежели рехнулась дак лечиться надо вот какие мои слова будут. К фершалу сходить надо он припарки поставит на одно место или в сумашедший дом, вот. Мужика отбивать а мужик уж сколькой месяц с постели не встает…»
Нюра одолела письмо и сначала засмеялась тоненько, а потом всхлипнула и заплакала, часто повторяя: «Ой глупа же баба, чего надумала. Мужика отбивать… Эко про меня подумала. А мне то и нать, что весточку, доброе слово получить откуда из далеких краев. А может, и взаболь я чего не так написала?»
Долго сидела Питерка, качая большой седой головой, вспоминала с натугой свое письмо к Семейке Нечаеву, но оно забылось начисто и никак не приходило на ум. Весь вечер старуха горевала, что поступила неладно и теперь люди держат на нее сердце. Несколько раз Нюра приглядывалась к снимку в коричневой рамке, испятнанной жучком-древоточцем, но Семейка не менялся, все так же пучил и строжил глаза, но становился вроде бы чужее и чужее.
«…А чего было-то, осподи, ничего не было, – оправдывалась Нюра, словно испугавшись письма. – Ну прижал к груди, что истомно стало; свой мужик, Лешка Губан, так вот ни разу не приласкал, все будто дрова колол, когда любить начнет, всю истреплет до синяков. А тут и дела-то всего, что словно бы ненароком притиснул Семейко в темных сенях, побаловался, а у нее и сердце сначала захолонуло, потом расперло его от счастья во всю грудь, и, словно глупая овечка, побежала бы без привязки следом куда угодно. Только и радости еще было, что с крылечка махнула вдогон. Он-то и забыл сразу, на телегу сел, хмельной да пьяный, заорал что-то под гармошку, все закрутилось тут. И забыл он Нюру, а ей вот и поныне помнится. Столько-то, значит, и отпущено любви, осподи-осподи. Ой, глупа баба была: уж вдовела, а еще хранила себя, совестилась. От своей любви не взяла…»
Весь вечер сама не своя бродила по избе Нюра. А к самой ночи вдруг холодно показалось – затопила наново печь и чугунок с картошкой сунула на огонь. И сразу из глубины памяти просочилась крохотная подробность о сыне: где-то застряла она в дальних закрайках и никогда не вспоминалась раньше, а тут вот, пока мыла картошку, шершавя ладони, готовно и выпятилась памятка, словно специально хранилась для такого случая, чтобы смягчить чуть Нюрино одиночество.
В семнадцатом году было: уехал Аким с дядей на осеннюю маргаритинскую ярмарку в Архангельское. Уж как не хотела отпускать сына, но не смогла удержать, и вот вернулся Парамон один. Спросила сначала легко, без душевной тревоги: «Утерял сына моем о?» Думала, тот где-то затаился на повети, чтобы насмешить. А брат и сказал: «В моряки Акимко записался, к прибегищу посуду водоплавающую пристегивать».
«Не мели глупостей, слышь?» Все думала – шутит, сердцем не слышала сыновней измены.
А вернулся сын уже в двадцать втором году, заматерелый, головой под притолоку, широконосый и глазастый, плечи обтянуты кожаной курткой… Так и не снял с себя, пока не сгинул, эту шкуру, осподи, было бы чем красоваться. Молчаливый вернулся, уж лишнего слова не обронит. Спросила только, мол, Акимушко, а как дале-то жить будем, народ боле весь оголодал. А он: «Голодно, матерь, верю, что голодно, надо еще поясок потуже затянуть и работать. Только бы эти годы пережить, а там и на хорошее потянет».
Так и погинул, осподи, хорошего не дождался. Спать-то ложился в тотамкий раз, как приехал, то говорит: мама, свари мне картошки в мундире. Веком этого не слыхала, что за картоха в мундире, всю ночь мучилась. Переживала, хотела Акиму угодить. А может, и не столько из-за картохи этой, сколько из-за сына: все молчит, будто воды в рот набрал.
Помнится: нет-нет да и прянет она с кровати, на ступешку привстанет, чтобы на сына глянуть. Тот распластался на полатях на медвежьей шкуре, лицом вниз спит, будто мертвый. На голом плече яма от пули, ей ли, охотнице, не знать, от чего случаются такие рваные метины. И на ногу что-то хромает, небось и там яма от пули…
Медведя-то этого вместях и добыли. Сыну, поди, годков тринадцать было, ну да, ну да, около этого, уж в баню стеснялся со мной ходить: совсем оформился. Пошли-то на белку, а Вопко, задорный такой песик был, выглядел берлогу у речки Волтомы. А Нюра тогда суеверная была: «Кышь, – сказала, – Вопко, нету здесь медведя, и ничего нету», – и отогнала собаку, чтобы не пахло от нее.
Сыну дробовку дала с пулей. Свалила дерево поодаль и устье-то закрестила здоровенными еловыми чураками, потом Акимко залез на берлог и свод-то прободал вицей да и стал, значит, шерсть зверине на вицу наматывать да дергать, наматывать да дергать. Вот внутрях-то и запоуркивало, заходил зверь ходуном. Сама-то к устью стала, с топором изготовилась. Медведке, такой живот, ой-ой, полез только, она и тяпнула его по башке со всего разворота. Только хресь… А медведко лезет, потом на подочвы встал, страх божий – такая колокольня, но сын хорошо его стрельнул, догнал пулей. Так и стряслась земля, как плашмя-то пал.