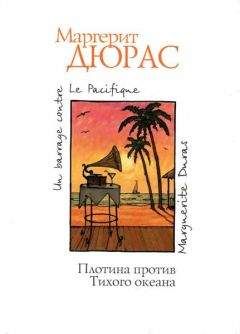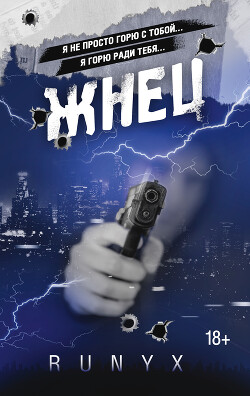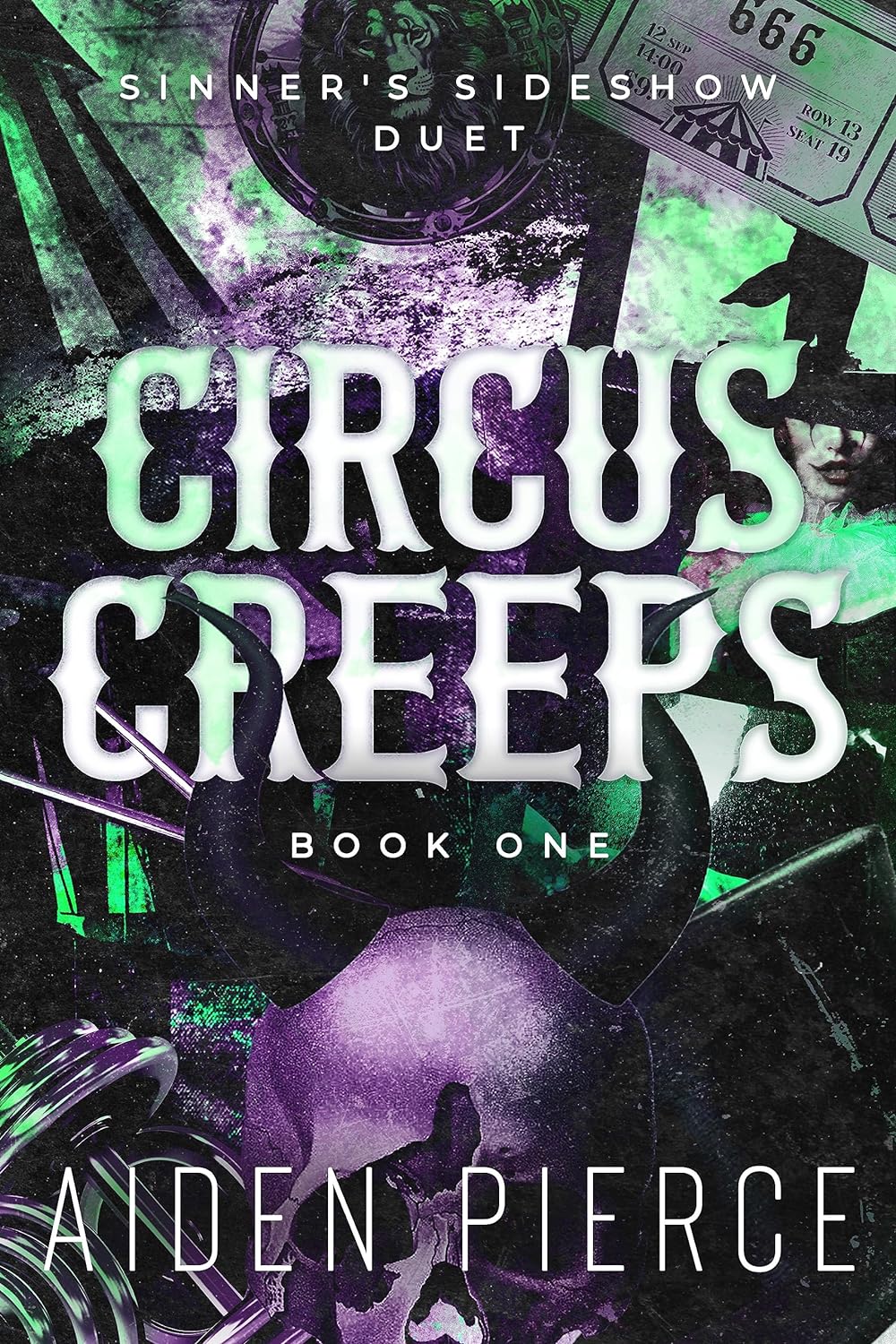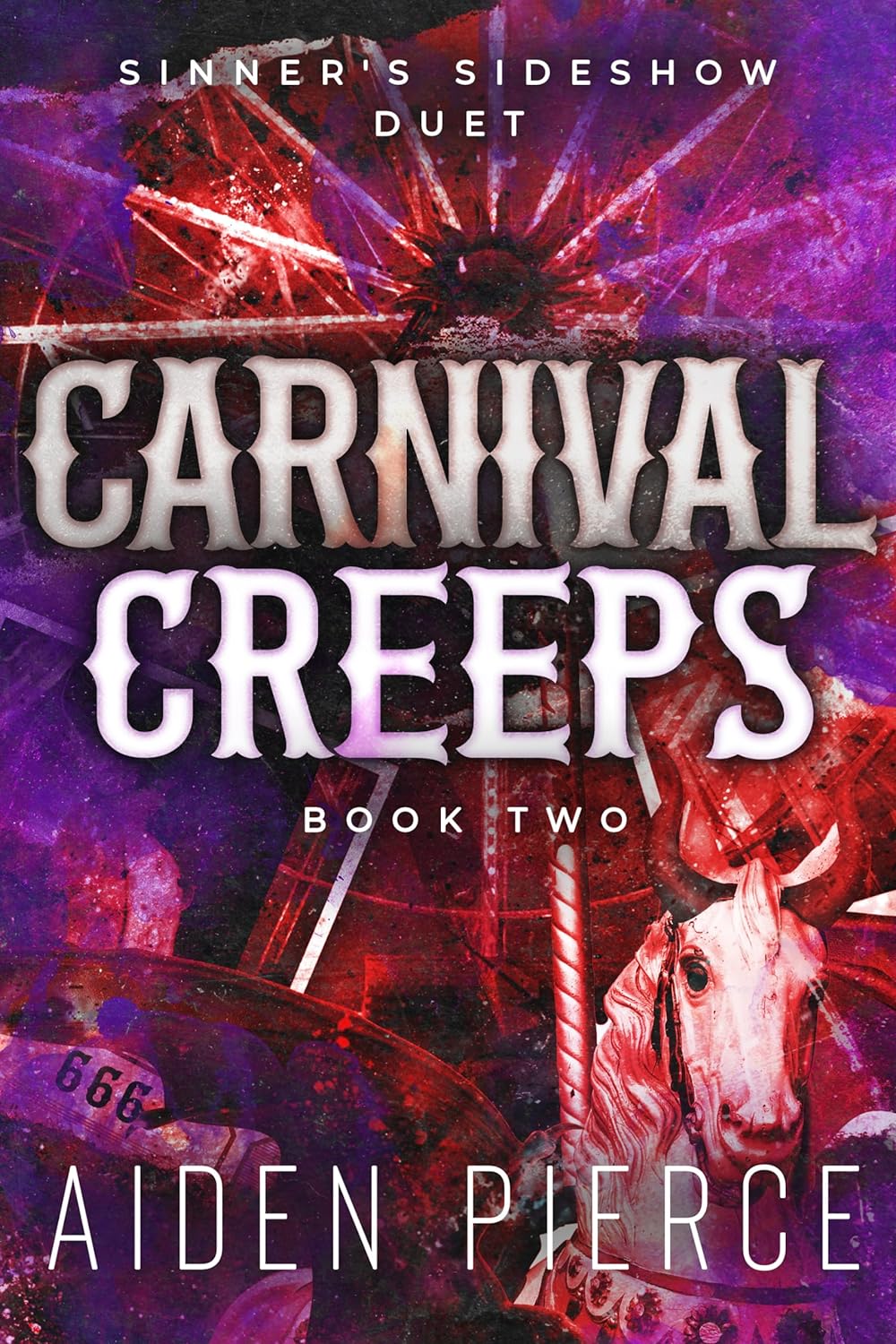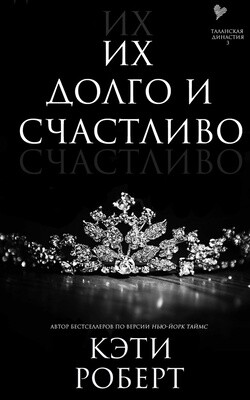Виталий Сёмин - Плотина

Помощь проекту
Плотина читать книгу онлайн
Отец удивился. Он ничего об этом не помнил.
— Может, фотографировался за компанию, — сказал он.
Во Францию дядька попал с русским экспедиционным корпусом в империалистическую войну, женился на француженке и не стал возвращаться домой. Теперь я вглядывался внимательнее. Когда против воли везут, и во Францию попасть легко. Но, чтобы жениться на француженке, надо убедить ее, что ты лучше знакомых ей мужчин. А как этого добиться, не зная французского языка? И я вглядывался в фотографию, на которой человек, отдаленно напоминавший отца, сжимал балалайку привычной рукой.
Заметив, что возбудил мое воображение, отец сказал:
— Ты об этом… не очень… распространяйся.
— Почему? — спросил я и сразу вспомнил, что о заграничном родственнике до сих пор ни от отца, ни от матери не слыхал.
— По-разному можно истолковать, — сказал отец. — Люди разные.
И опять запер фотографию.
Когда отец ушел в армию, этот ящик и остался закрытым. Ключ от него лежал там, где хранились свечи и слесарный инструмент. Шла война, город бомбили, а я никак не решался нарушить отцовский запрет.
Увы! В ящике, когда я его открыл, в том же порядке лежали готовальня, утратившие для меня интерес перья «рондо» и ножик в чехольчике, лезвие которого оказалось сломанным. Дохнуло на минуту отцовским запахом, но и это рассеялось.
В наш дом попал снаряд, в город вошли немцы. После конторских книг на подтопку уходили американские журналы. Я сам стал от матери запирать в ящик гранаты РГД, запалы от гранат, четырехгранный штык. Но каждый раз, когда я поворачивал ключ, руке что-то передавалось.
Среди того, что вернула память, когда я увидел отца под Берлином, было и смутное чувство вины. Я удивился, когда догадался, в чем дело. После трех каторжных лет мне и в голову не приходило, что я так связан с собой довоенным. Я ведь изо всех сил отбивался от того слабого, презираемого, не знающего жизни мальчишки и только по ночам давал ему волю. Да и какое значение после всего мог иметь тот давний отцовский запрет! Не то что стола — нас самих могло не быть на свете.
Отцовская глуховатость всегда у меня как-то связывалась с тем, что отец знает о жизни. Теперь у меня не было сомнений, что я знаю больше. Но, словно давний запрет не утратил силы, наши отношения складывались так же, как и до войны.
Не мог я, например, рассказать ему о том, как целился в немца, как в ночь перед тем с Костиком, белорусом Саней и Василием Дундуком воровали кроликов.
Клетки с кроликами я давно заметил метрах в пятистах от лагеря на пустыре рядом с сараями. Риска не было никакого, но я взял с собой пистолет и все время держал его на взводе, пока Василь и Саня ломали клетки, а Костик подавал советы им и мне.
Свой парабеллум с легкостью, к которой я так и не мог привыкнуть, дал мне Ванюша.
— Приятелей своих позови, — сказал он, когда я предложил ему сходить вместе. — Костика, Саню… как его… Дундука. Сами сходите.
Это было как раз то, что мне хотелось самому.
— Тогда дай свой пистолет, — сказал я.
Когда ждешь заведомо отказа, просить нельзя. Но я не удержался. Я ждал, Ванюша скажет: «Ни к чему это». Или: «У тебя свой есть». Или что-то в том же роде. Но он встал из-за стола, сунул руку под матрац, протянул:
— Возьми.
Пронзительная эта легкость всегда была для меня каким-то упреком. Она казалась болезнью, роднящей Ванюшу с Москвичом. Тот тоже, не глядя, через плечо отдавал окурки, сигареты каждому, кто попросит. И Ванюша не знал затруднений, естественных для других. Была тут для меня какая-то обида. Я с таким напряжением решался попросить, а он так легко отдавал, что напряжение выпадало в душевный осадок. Не давала мне покоя одинаковая непривязанность к своим вещам этих двух разных людей.
Москвича, казалось, она унижала. Когда ему везло, он на всякий случай заискивал перед всеми и перед судьбой. Так думал я и понимал, что это не вся правда. К Ванюше же она не имела никакого отношения. Москвич чаще протягивал руку, чтобы попросить, чем для того, чтобы дать. Ванюшу просящим я не видел никогда.
Его даже дележка хлеба не возбуждала.
— Живот меньше, чем у других, — объяснял Ванюша это своим ранением. И если кто-то, завидуя или шутя, говорил, что ему выпал большой кусок, Ванюша тотчас предлагал: — Меняемся!
Вначале это казалось блатным высокомерием (и что-то, наверно, тут было). Потом вызывало ревность. В лагере были специалисты просить. Их узнавали по вкрадчивости, по липучести, по тому, как тянули руку ко рту закурившего или получившего окурок, по нечувствительности к упрекам. Покурив в одной компании, они тотчас переходили к другой.
— Убери руку! — говорили им.
Они продолжали тянуть или многозначительно продували пустой мундштук, пока раздраженный человек не отдавал окурка.
На них очередь курящих всегда обрывалась. За ними не занимали — брезговали.
Может, их сжигала какая-то болезнь. Такой голод всегда был в их глазах и так жадно втягивались их щеки, когда они дорывались до окурка.
Об одном из них говорили, что он дым пускает глазами. И правда, когда курил, голубые, навыкате глаза его задымливались.
Ванюша не отказывал и таким.
— Откуда ты знаешь, — говорил Ванюша, когда я его убеждал, что он делится с недостойным, — может, я хуже их.
— Брось ты! — возмущался я, а Ванюша смотрел на меня своим невыносимо пристальным взглядом и добавлял:
— Или ты.
Я старался вспомнить, чем перед ним провинился, пугался и умолкал. И потом никогда не мог разобраться, шутил Ванюша или говорил серьезно. Я даже специально присматривался к попрошайкам. Но отвращение к мужчине с задымливающимися глазами, к его развинченной походке, безотчетный страх перед самим его приближением, перед пустотой его глаз мешали мне хоть как-то понять Ванюшу. В голубых, навыкате глазах жизнь вспыхивала только в тот момент, когда попрошайка догадывался, какое отвращение внушает. Человек, казалось, торжествовал. Тянул руку к чужому рту, и окурок ему отдавали, как отмахивались. Но он не уходил. Вставлял окурок в мундштук и, неприлично всасывая щеки, затягивался.
Эти люди обладали проницательностью на слабость и доброту. Настойчивость их не ослабевала, пока можно было что-то выпросить. Я ревновал, считая, что Ванюша жертвует моими интересами.
— Ты на минуту задумайся, а потом отдавай, — говорил я ему.
Ванюша смеялся.
— Подумаю — не дам. Я жадный. Лучше не думать.
За три года я прочно усвоил, что всем оставляют докурить, добытым сверх пайки делятся с друзьями, попрошаек гонят, а высокомерие вроде Ванюшиного «Меняемся!» позволяют себе по праздникам.
Костику, Дундуку, мне или другим малолеткам такие праздники почти не выпадали. Мы были недобытчиками. Костик к тому же не курил, но никогда не упускал случая сказать попрошайке: «С длинной рукой под церковь!» Мне тоже этими же словами хотелось отшить того, с задымливающимися глазами. Но было в этих словах такое, обо что самому можно обжечься. Будто на себя же накликал. Словно открывался предел, за который я из страха не давал себе заглядывать, за который мне чудом удавалось не переходить.
Но я так часто и так близко к нему подходил, что давно догадался: за тем пределом главный источник душевных бед и доблестей. Споря с Ванюшей, я завидовал ему. Я бы завидовал и Москвичу, если бы он был другим человеком.
Однако пистолет не был обыкновенной вещью. Его нельзя отдать, не передав с ним слишком многого. Мне нужны были остерегающие или ограничивающие слова. Я это почувствовал, потому что они не были сказаны.
Я, конечно, хотел похвастать Ванюшиным доверием перед Костиком, Саней и Дундуком.
За день перед тем Колька Блатыга и его дружки избили Ивана Шахтера.
Это был длинный унылый человек лет тридцати. Прозвище он получил за темное, в пороховых крапинках лицо, за вечно грязную шею. Лежа на матраце у себя на втором этаже, он незлобно отбивался от тех, кто упрекал его в нечистоплотности.
— Не смывается. Уголь! Я же в шахте работал.
— А умываться пробовал? — оттачивал кто-нибудь на нем свое остроумие.
— Так что пробовать? — лениво отзывался Иван. — Это же антрацит.
— А с койки чего не встаешь?
— А на что силы тратить?
Ему на койку приносили докурить, сюда же приходили, чтобы взять «бычок».
И в выражении его лица и в фигуре была та же унылость, которую острякам не терпелось растревожить. Однако, если очень донимали, унылость его исчезала и становилось видно, что это крепкий и нетрусливый человек. Не я один позавидовал, когда в первый день освобождения увидел в его руках большой офицерский «вальтер». Иван принес его после того, как бегал догонять немецких солдат, врывавшихся в лагерь. Днем Иван охотно показывал свой пистолет, а на ночь спрятал его не в бараке, а под крышей лагерной уборной. У всех остались опасения, что ночью кто-то придет и обыщет.