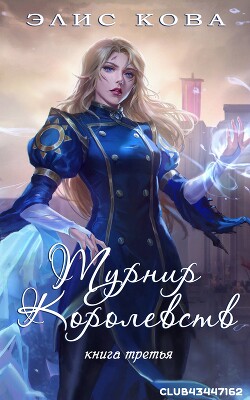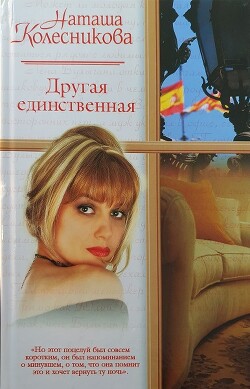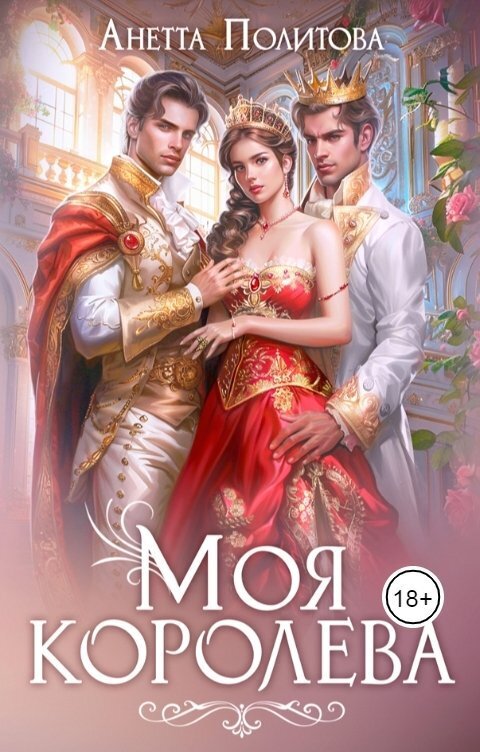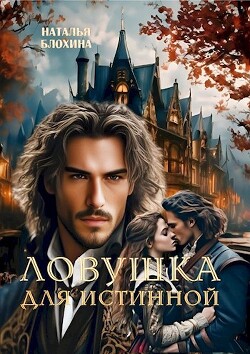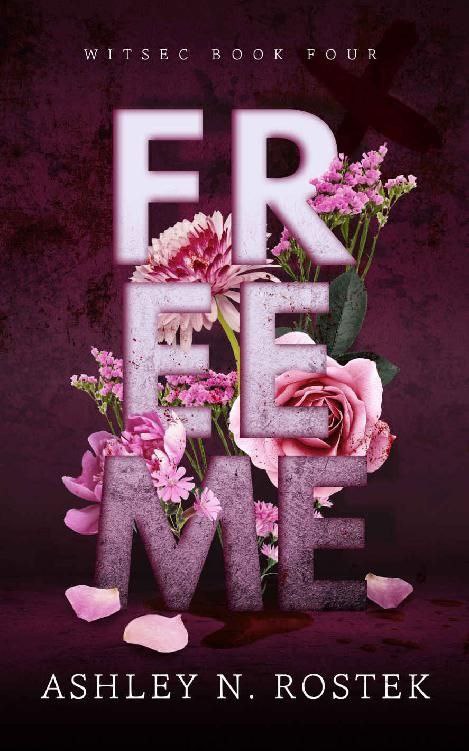Герта Мюллер - Сердце-зверь
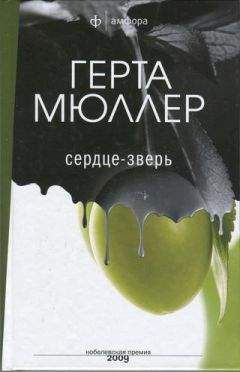
Помощь проекту
Сердце-зверь читать книгу онлайн
Герта Мюллер
Сердце-зверь
Друга каждый себе находил только в облачке на небе.
Может ли быть иначе, ведь мир этот страшен.
И мама сказала: дружба? — в голову не бери,
Какие еще друзья.
Займись чем-нибудь серьезным.
Джеллу Наум«Когда молчим, мы неприятны, — сказал Эдгар, — когда говорим — смешны».
Мы сидели на полу, перед теми фотографиями, уже очень долго. У меня затекли ноги.
Пытаться выразить словами то, что у тебя на сердце, все равно как втаптывать траву в землю. Но и молчать не легче.
Эдгар молчал.
Сегодня я еще не могу представить себе могилы. Лишь пояс от платья, окно, «орех» и веревку. Каждая смерть — мешок; так мне видится.
«Если кто услышит тебя, — сказал Эдгар, — решит, что ты спятила».
И еще, когда я думаю о смерти, мне кажется, что каждый умерший оставляет по себе целый мешок слов. Мне все время приходят на ум парикмахер и ножницы для ногтей, потому что они уже не нужны мертвым. И еще: что мертвый уже никогда не потеряет пуговицу.
«Наверное, они иначе, чем мы, чувствовали, что диктатор — это ошибка», — сказал Эдгар.
У них было тому доказательство, ведь мы считали ошибкой и самих себя. Потому что в той стране мы должны были ходить, есть, спать, кого-то любить в страхе, пока, вдруг опомнившись, не замечали, что нам опять нужны парикмахер и ножницы для ногтей.
«Если кто-то разводит на земле кладбища просто потому, что он ходит, ест, спит и кого-то любит, — сказал Эдгар, — он — худшая ошибка, чем мы. Он — ошибка для всех, он — ошибка, во власти которой все».
Трава у нас в головах. Трава валится наземь, скошенная, когда мы говорим. Но и когда молчим. А трава, вновь поднявшаяся и вновь скошенная и вновь поднявшаяся, вырастает как ей вздумается. И все-таки мы счастливы.
* * *
Лола была родом с юга страны, и было видно по ней — родом она с той сторонки, что прозябала и прозябает в нищете. Не знаю, где на ее лице осталась эта тень — то ли на скулах, то ли где-то возле губ, то ли в самой середке, в глазах. Трудно выразить, что я хочу сказать, трудно о чьей-то родной сторонке и не проще о чьем-то лице. В нищете прозябала любая сторонка — и в стране, и на лицах. Но та сторонка, откуда приехала Лола, наверное, была из нищих нищей — именно такой она виделась то ли на Лолиных скулах, то ли где-то возле губ, то ли в самой середке, в глазах. Именно сторонка — не местность и не край.
Сушь, пишет Лола, сушь подчистую сжирает всё, кроме овец, арбузов и шелковиц.
Но не сушь погнала Лолу с родимой сторонки. «Сушь, — пишет Лола в своей тетрадке, — ей безразлично, чему я тут учусь. Сушь — ей нет дела до того, как много я знаю. Ей не важно, кто я теперь, кем стала. Станешь кем-то, — пишет Лола, — и через четыре года вернешься в село. Но только не понизу, не пыльной дорогой, а поверху, по листве шелковиц».
Шелковицы в городе были. Но не на улицах. Они росли во дворах. Но далеко не во всех дворах. Только во дворах стариков. И стоял под деревьями обыкновенный домашний стул. С мягким сиденьем, с бархатной обивкой. Но бархат был весь в пятнах, истертый, с дырой. А дыра заткнута снизу, пучком сена заткнута. Сено сплющилось и висело из-под сиденья тощей серой косицей.
Подойдешь поближе к списанному мебельному ветерану и тогда разглядишь в косице сухие травинки. И увидишь, что когда-то они были зелеными.
Во дворах с шелковицами тень была словно покой, снизошедший на старческое лицо — там, на стуле. «Словно» — потому что я, сама не знаю как, ни с того ни с сего, заходила в эти дворы, но второй раз в один и тот же двор не заглядывала почти никогда. А если оказывалась там, то видела солнечный луч, тянувшийся, как веревка, с макушки дерева к старческому лицу и озарявший на этом лице дальнюю сторонку. Мой взгляд скользил по веревке вверх, потом вниз и снова вверх. И по спине пробегал озноб, потому что покой старческого лица не был покоем отдохновения под сенью шелковиц — то был покой одиночества, а струилось оно из глаз старика. Мне не хотелось, чтобы кто-то увидел меня в одном из таких дворов. Чтобы спросил, что я там делала. Ничего особенного, лишь то же, что и сидевшие во дворе, — я смотрела. Подолгу смотрела на шелковицы. А напоследок, собравшись уходить, снова смотрела на лицо старика на стуле. И видела дальнюю сторонку. И еще: парень или девушка покидает родимую сторонку и уносит в заплечном мешке деревце шелковицы. Много, много привезенных издалека шелковиц видела я в городских дворах.
Позднее я прочитала в Лолиной тетрадке: «Что унесешь с собой с родимой сторонки, то у тебя и на лице будет».
Лола поступила на отделение русского языка. Общий курс — четыре года. Вступительные экзамены сдала без труда — мест в вузах было столько же, сколько выпускников в школах. И мало кому хотелось изучать русский, шли без особого желания. «С желаниями морока, — пишет Лола, — куда проще с целями. У мужчин, которые учатся в вузе, чистые ногти, — пишет Лола. — Пройдет четыре года, и такой мужчина поедет со мной, потому что такой мужчина знает: на селе он будет настоящим господином. Парикмахер будет приходить к нему на дом и у порога снимать башмаки. Овцы, арбузы — этому больше не бывать, — пишет Лола, — а шелковицы пусть будут, потому что у всех у нас есть листья».
Комната-коробчонка, одно окно, шесть девушек, шесть кроватей. Под каждой кроватью чемодан. У двери — встроенный шкаф, над дверью — громкоговоритель. Пролетарские хоровые коллективы распевали под потолком, песни скатывались на стены, со стен — на кровати. Они умолкали только с приходом ночи, умолкала и улица за окном, и кудлатый парк, через который никто не ходил. Коробчонок в каждом общежитии было сорок.
Кто-то сказал, что громкоговоритель видит и слышит все, чем мы занимаемся.
Платья девушек висели в шкафу, висели плотно, сплошной стеной. У Лолы платьев было меньше всех. Она надевала платья других девушек. Чулки все держали в чемоданах под кроватью.
Кто-то запел:
Матушка мне посулила,
Коли замуж я пойду,
Дюжину больших подушек —
В каждой комариный рой,
И еще пяток подушек —
В каждой куча муравьев,
И еще пяток подушек —
В каждой прелая листва…
Лола сидела возле своей кровати на полу, перед раскрытым чемоданом. Перерывая чулки, она подняла кверху ворох перепутавшихся коленок, пяток, мысков. И уронила все это на пол. Ее руки тряслись, и не два глаза было на ее лице, а без счета. И рук, поднятых кверху, пустых, — не две, а без счета. Нет, их было столько, сколько чулок на полу.
Глаза, руки, чулки были в раздоре из-за этой песни, которую пел кто-то через две кровати от них. Пела маленькая головка, она покачивалась, и была у ней на лбу озабоченная морщинка. От песни морщинка разгладилась.
Под каждой кроватью — чемодан со скомканными чулками, толстыми, хлопчатобумажными. Вся страна называла их «чулки-патент». Чулки-патент у девушек, которым хотелось носить колготки — гладкие и тонкие колготки-паутинки. Еще им хотелось иметь лак для ногтей и лак для волос и тушь для ресниц.
Под шестью подушками лежали коробочки с сажей. Шесть девушек плевали в коробочки, долго скребли и ковыряли сажу зубочисткой, на зубочистку налипала черная кашица. Тут они широко раскрывали глаза. Зубочистка царапала край века, но ресницы становились черными и густыми. Правда, совсем скоро сажа облезала, оставляя серые проплешинки. Слюна высыхала — сажа осыпалась и размазывалась под глазами.
Пусть будет сажа на щеках, думали девушки, но только сажа для ресниц, а не сажа из фабричных труб, фабричная сажа — ну нет, этому не бывать. И было бы побольше тонких колготок-паутинок — побольше, побольше, ведь на них так часто бегут петли. Девушки ловили петли на своих щиколотках и ляжках. Поймав, заклеивали лаком доя ногтей.
«Трудно будет отстирывать до ослепительной белизны рубашки настоящего господина. Но это будет моя любовь, через четыре года, когда он поедет со мной туда, в сушь. Если он сумеет ослепить белизной своих рубашек прохожих на селе, он станет моей любовью. И — если он будет настоящий господин, к которому парикмахер приходит на дом и у порога снимает башмаки. Трудно будет отстирывать рубашки до ослепительной белизны там-то, в грязной деревне, где полно блох», — пишет Лола.
Лола однажды сказала, блохи там даже на стволах деревьев. Кто-то заметил: не блохи это, а тля, листовая тля. Лола пишет в своей тетрадке: «Листовые блохи. Они еще хуже». Кто-то сказал: на людях тля не заводится, у людей же нет листьев. Лола пишет: «Блохи заводятся на всем, когда палит солнце. Даже ветер носит на себе блох. А листья у всех у нас есть. Когда перестаешь расти, листья опадают, потому что ушло твое детство. Но листья появляются снова, когда ты умаляешься, потому что ушла твоя любовь». Лола пишет: «Листья растут как им вздумается. Растут, как высокая трава-мурава. Листьев нет лишь у двух-трех детей на все село, у этих детей долгое детство. У этих детей нет ни братьев, ни сестер, потому что их родители — люди образованные. От листовых блох большой ребенок превращается в маленького, четырехлетний делается трехлетним, трехлетний — годовалым. И полугодовалым, и совсем крохой, новорожденным, — пишет Лола. — А чем больше детей заводится от листовых блох, чем больше появляется у ребенка братьев и сестер, тем короче его детство».