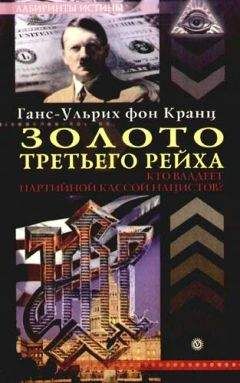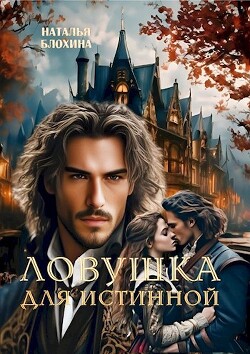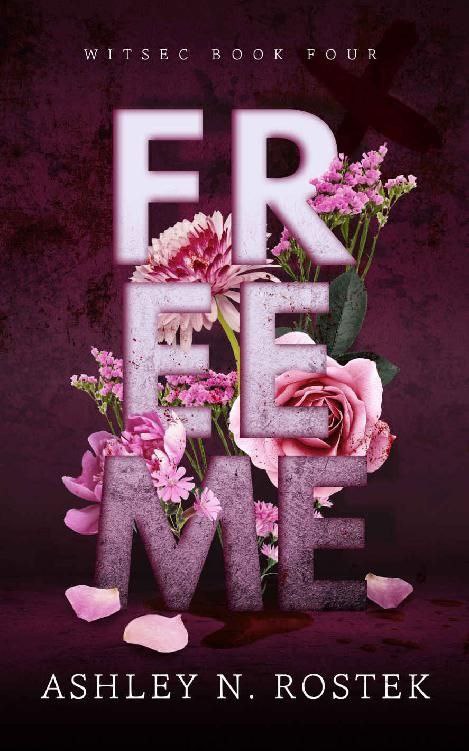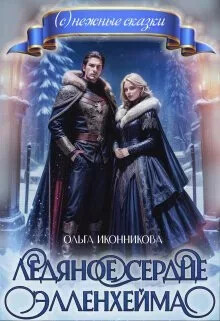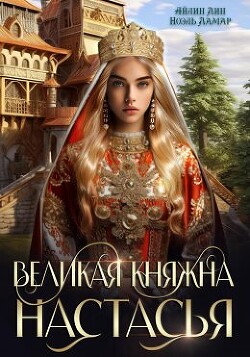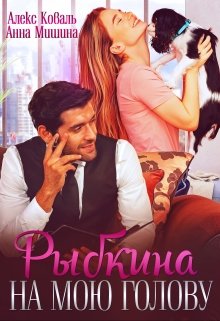Линор Горалик - Это называется так (короткая проза)

Помощь проекту
Это называется так (короткая проза) читать книгу онлайн
Линор Горалик
Это называется так
(короткая проза)
Короче
Девяносто один довольно короткий рассказ
Ать!
Прислали за ним на третий этаж сутулого чирьеватого мальчика, племянника продавщицы. Он в это время ничем особым не был занят, как раз сел поесть, — ну, положил прямо на ступеньку бутерброд и яблоко, которым закусывал этот бутерброд; побежал. Вход в гастроном, — так Кирилл гордо называл свое хозяйство, а всего там три полки и холодильник, — уводил почти под землю, мальчик шмыгнул понизу, а он присел и на длинных ногах осторожно вошел. Очень тихо было в гастрономе, мальчик сразу побежал в подсобку за кассой, он следом вошел: там на шатком стуле с мягким бордовым сиденьем стояла Астрин, не шевелясь стояла, как он ее научил. Мальчика он остановил рукой: не входи, а сам переступил порог, палец строго приложил к губам и медленно, стараясь не шуршать штанами, сел на корточки. Крошечная Астрин с ее огромным птичьим носом и хрупкими пальцами, добела сжимающими веселенькую синюю ткань форменого фартука, вдруг показалась ему престарелой школьницей.
Он прикрыл глаза, чтобы не отвлекаться, и стал слушать. Услышал дальний правый угол, где валялись коробки из-под сигарет, уцепился слухом, как петлей: вот вдруг быстро — быстро по очень прямой линии дернуло к сейфу; вокруг сейфа потянуло по неровной, судорожной кривой; потыкалось в сталь не то сдуру, не то для порядку; мягко повело в сторону, к влипшим в линолеум пыльным резиновым сапогам под перегруженной барахлом вешалкой. Тут он нетерпеливо сказал про себя: «Ать!» — и стал осторожно тянуть за эту воображаемую нитку, и даже пальцами кругло зашевелил: вот так, вот так. Сперва, как всегда, на другом конце испуганно замерло; потом вроде рыпнулось туда — сюда, туда — сюда, — а потом нехотя, но гладко пошло, вот так, вот так, и вдруг — вот оно, на середине комнаты! Астрин, не удержавшись, взвизгнула от страха, мысленная нитка оборвалась; он рассерженно рыкнул, поспешно дернулся вперед, чуть не упал, пальцем даже ударился о линолеум — но поймал, поймал за хвост в последнюю секунду маленького, злого, яростно визжащего мыша.
Восторженно завопил за спиною племянник, расхохотался Кирилл, которого раньше не было видно за обросшей барахлом вешалкой, Астрин, все еще боясь сойти со стула, жалобно выдохнула. Он понес мыша на служебный двор и там расчетливо отпустил, но обратно вошел деланно суровым, хмурым и демонстративно вытер подошву ботинка о щетинистый коврик. Взял у Кирилла пакет с платой за работу: кило яблок, батон, колбаса — нарезка триста граммов, печенье в шоколаде, вкусное. Пошел обратно на третий этаж, к мягким, чмокающим валикам, с которых капала нарядная, приятная ему белая краска. Дома в Махачкале у него две дочки, обе способные, хорошо рисуют, платят специальному учителю. Дома он ничего такого не умел, — один раз дробно затопал ногой вслед огромному, как в кошмарном сне, лоснящемуся таракану, но тот взметнулся вверх по стенке и боком на огромной скорости погрузился за линию плинтуса.
Суленька
…а в те немногие дни, когда была полная ясность, когда он не принимал среднюю дочь за младшую сестру, а старшую медсестру — за первую жену, вдруг стало к нему лезть имя «Суленька», тошнотворное и вязкое, с ненавистью изгнанное когда-то из своей и чужой памяти. И как ни поворачивался он боком к окну, как ни надевал плотнее, аккуратнее разношенные синие тапки, все ему думалось о себе: «Суленька, Суленька», — но уже не на кого было наорать за это, чтобы забыли, не смели; некого теперь было ударить в живот ребром ладони, некому было в ярости опустить на ногу удачно подвернувшийся табурет; никого не осталось.
С палочкой
Нехорошая получилась история, и шел он сюда, как ему самому казалось, посоветоваться, а на самом деле — ну зачем ходят в такие дома? Облегчить душу, очиститься, покаяться, получить отпущение, омыться всем этим… Вот этим. Он принес что-то соответствующее (дороговатое и мелковатое одновременно) — такие вафли, которые вафли не в человеческом понимании, а в немецком, альпийском, тягучем. И чаю ему дали в изъеденном родовою памятью подстаканнике, и Машенька пробудилась («О, Машка проклюнулась!») — пробудилась Машенька, прибежала толстыми неверными ножками в белых колготках на кухню, — умная голова тыковкой, кожа прозрачной голубизны, черные со сна глаза. Ах, некрасивая получилась история; он ждет заговорить, все уже знают про эту некрасивую, попахивающую шантажом, — пусть интеллигентским, «за все хорошее против всего плохого», но все-таки шантажом, обычным шантажом с деньгами и всем таким, — историю. Все всё знают, есть уже консенсус: он сейчас заговорит, покается — и будет прощен, утешен; в конце концов, он имел право — но не при Машеньке же?
Нет, еще пару минут. Машка, чего тебе дать? Дядя пьет чай, хочешь чаю? Машенька хочет «сок с палочкой». Машенькина мать, блистая невозможным, девятнадцатого века пробором (никогда в таких, как эта, московских квартирах не переставали блистать проборы, даже и в серые, вшивые коммунальные годы), приподнимает милейшие дворянские брови: мол, полюбуйтесь. Машеньке дают в обе лапки высокий стакан, льется тяжелыми бульками томатный сок, потом соль, потом кусочек лимона, потом пшик черного перца — и палочка сельдерея. Ого! Ого и еще несколько междометий. Машенька лижет сельдерей, Маша, пойди поиграй на рояле — это семейная шутка, непременный рояль давно одеревенел, живет в соседней полумертвой комнате, Маша играет на закрытой черной доской клавиатуре рассыпчатыми красно — желтыми роботами. Он никогда не видел этого пианино, — этой пианины, рояли этой, — но вдруг видит его сквозь стену, разделяющую мертвую комнату и вечно живую кухню: на крышке рояля непременно расставлено что-нибудь сентиментальное, но с иронией; что? Чашки, видит он, советский сервиз в горохах расположился, — видит он, — на вечный постой. Очень мило, мило и остроумно. Прямо на блюдцах, и чайник в неправильной середине, и в чашках, конечно, милый, милый мусор, — шишка, палка, самозародившаяся в парке Горького сосновая рогатка, ручка, пучка, дрючка, — видит он. Машенька убежала за рояль, вот он уже готов говорить — да что говорить? Оправдываться; это была его разработка, его научный baby, они обещали, и вот — слили, пусть хоть заплатят, — «но почему же я все равно чувствую себя скотиной?» — «Паша, милый, ну это потому что (тут необязательные слова, ради которых он пришел, приполз, принес в подношение вязкие вафли). И, безусловно, вы сделали для них.» (еще, еще, — вот где-то тут его начнет попускать). «И только благодаря вам они. И вы имели полное право. А они. А вы.» — «Но почему же я чувствую себя такой скотиной?!» — «Милый, ну потому что мы все так устроены, мы все не способны.» (дальше что-то такое, отчего попускает: мы хорошие, все плохие, поглаживания, почесывания, обоюдные поласкивания). — «Я даже не знаю». — «Ну зато мы знаем». Они знают, знают, — пусть скажут. Пять минут — и всё. Ну пожалуйста, давайте начнем скорее. Он уже изготовился, втянул живот: «Слушайте, ну давайте же я нажалуюсь вам.» Машенька вбегает, Машенька несет полупустой стакан, прозрачное лицо в мясистом соке: «Мама, я хочу играть в слова!» — «На русском или на английском?»
И тут он взял и сказал очень спокойно и очень, очень громко:
— Абырлаблаблабылабла. Быблаваблагавгавблабла. Пурбублы гав гав бырбрыбыбла. Субурба рубула. Гав гав быр гывырла рвыр рвыр бубубла быбырбыбла рырыгрывла.
И вот тогда наступила какая-то секунда, когда словно хрустнуло и расклеилось в груди липкое, аккуратное, вафельное. Ему даже захотелось молча разинуть рот, как жерло фонтана, — чтобы оттуда вылилось «бвапывоол бырла бырдла бырбырвалг» черной ровной густой струей. Или пролаялось. Лучше пролаялось бы. Он даже разинул рот, действительно, и даже пролаялось — еще как пролаялось; и даже как будто взорвалась эта милая, милая наша ватная кухня черными, чистыми, холодными потоками, ударившими в ее стены. Но ласково блеснул пробор, звякнула прабабушкина ложка в прадедушкиной чашке, веселая Машенька закричала: «Это не английский! Я знаю, я знаю, это не английский!..»
Ах, Паша, Паша, Паша. Ах, Паша, Паша, Паша. Ах, Паша.
Эксперимент
Кросс был на восемь километров, а до ротной столовой — семь минут быстрым шагом. А тем шагом, на который мы были способны сейчас, — наверное, пятнадцать. Или час. Или три часа. Скорее всего, мы бы просто упали на сорокаградусной жаре сразу позади тира — до ужина никто не нашел бы, а после ужина было бы поздно. Кроме того, что за тарелкой пришлось бы наклониться. Следы утренней каши на краю тарелки побурели от жары, сморщился и посерел тонкий кружок огурца. За тот час, когда мы бежали кросс, эта сука могла отнести тарелку сама. Даже со своим костылем. С костылем до столовой ходу минут пятнадцать, наверное. Пока мы бежали восемь километров, она сидела в палатке под вентилятором. Мы спросили, сильно ли у нее болит нога. Она сказала, сильно. Мы спросили, не надо ли, раз так, отвести ее к медсестре.