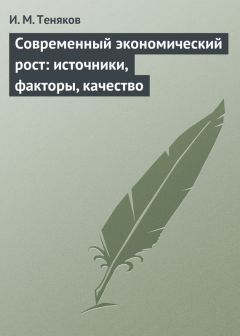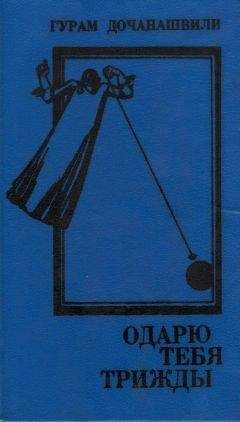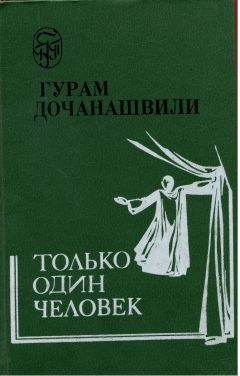Гурам Дочанашвили - Только один человек
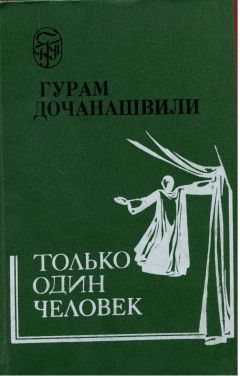
Помощь проекту
Только один человек читать книгу онлайн
Спорт — обитель эмоций, и, несмотря на то, что фабула повести достаточно остранена, местами все-таки пробивается «опасность» возникновения сострадания, особенно во время состоявшейся с появлением Бесаме Каро беседы о триумфальных успехах команды. В подобных случаях автор постоянно прибегает к дополнительным «профилактическим» средствам с целью приглушения эмоций, и вообще всегда располагает «холодным душем» для протрезвления экзальтированного читателя. Этому служит, между прочим, и лексическая, синтаксическая, даже орфографическая остраненность вещи.
Г. Дочанашвили, глубоко проникший в недра родного языка, смело и результативно прибегает к речевой эксцентрике, с первого взгляда странному словотворчеству, создавая чрезвычайно выразительные неологизмы и оказионизмы, к сожалению, не всегда поддающиеся переводу.
Изображению явления с эмпирической точностью в произведениях подобного рода особого значения не придается. И это своеобразно выразилось в интересном высказывании уже в экспозиции повести. «...величайший фантаст Провидение возжелало, чтоб у проезжавшей неподалеку кареты сломалось все равно какое, но для порядка уточним — левое переднее колесо».
Эта шутка о точной обработке деталей как бы дает нам своеобразный ключ к пониманию характера произведения: все внимание направлено в нем не на внешнюю сторону явления, а на вскрытие его сути. Потому-то писатель и столь смело деформирует явления, и в том числе явления грамматические.
Повесть состоит из непрочно связанных друг с другом сюжетно пассажей, что в общем-то тоже особенность манеры письма. К примеру, повествование то и дело прерывается авторскими монологами на темы «Кармен» Проспера Мериме. В связи с этим нельзя не отметить одной черты произведений писателя: в них силен эссеистический поток, органично сочетающийся, сливающийся с художественной тканью и придающий ей специфический, я бы сказал, чрезвычайно современный облик. Поток этот в этой повести ярче всего проявляется именно в эпизодах на темы «Кармен». Подобное включение пассажей казалось бы на очень отдаленные от основной сюжетной линии темы обычное явление в «эпическом» искусстве. В рассматриваемой повести медитации на темы «Кармен» несут функцию, сходную с функцией «зонгов» в построенной на эффекте остраненности «эпической» драматургии: они служат смене настроений, увеличению дистанции между читателем и повествованием, что в конечном итоге способствует усилению аналитического начала. Свободолюбивая Кармен противостоит здесь «излишне» послушным воспитанникам Рексача, и тем самым ярче проявляется художественная идея произведения.
Остранены сноски, остранено даже заглавие. На последнем необходимо остановиться особо, поскольку это остроумная находка писателя. Первое слово заглавия, столь причудливо поданное (две буквы в нем взяты в скобки), обретает каламбурный характер — нацеливая взгляд одновременно и на место поражения Наполеона, и на определенный вид спорта. Этому «единству» в произведении придается существенное значение. Далее в повести эта игра слова мастерски развивается.
Действие перенесено в Испанию, имена персонажей и топонимика испанские (было бы странным, если бы на фоне тотального остранения имена и названия оставались вне остраненности). Применение иноязычной ономастики тоже способствует увеличению дистанции между читателем и персонажами. И следует особо подчеркнуть, что эти «испанцы» частенько «забывают», что они именно испанцы, и выпаливают совершенно не свойственные испанцам словечки... Короче, здесь целая система «несоответствий», что на каждом шагу готовит читателю все новые и новые неожиданности и обусловливает особый художественный эффект, столь свойственный построенным на принципе остранения произведениям.
Давая предельно общую характеристику повести, можно сказать, что она о спасении человечного в человеке. Борьба за «душу» Бесаме Каро ведется между двумя враждебно настроенными лагерями: с одной стороны стоят тупые, охваченные темными инстинктами Моралес, Картузо Бабилония, Рексач и иже с ними, с другой — поклоняющиеся и служащие добру и искусству Христобальд Рохас, учителя консерватории и нежнейшая, утонченнейшая дочка Рохаса — Рамона... Городок Алькарас, где доводится жить и учиться приехавшему из деревни Бесаме Каро, с одной стороны, правда, поле деятельности тьмы, насилия, корыстолюбия, то есть грязных делишек Моралесов и Рексачей, но, с другой, в нем же стоит и белейшее, светлейшее здание храма искусств, консерватории, где деятельно трудятся благородные и сильные люди. Всего несколькими штрихами писатель характеризует их следующим образом: «Почти все маэстро в консерватории были хорошие: по теории — деловито-решительный бородач; по сольфеджио — ясноглазый, будто весь просвеченный насквозь нежными, стройными звуками старикан, упиравшийся в клавесин строгими, как сам закон, пальцами; овеянный глубокой таинственностью, отрешенно-туманноглазый, возвышенно надломленный и какой-то непостижимо праведный преподаватель гармонии...»
Ближе и подробнее знакомит автор читателя с музыкантом Христобальдом Рохасом, внешне сдержанным, печальным и даже хмурым и одновременно добрым и обходительным. Это он привез обладающего большим музыкальным даром сироту Бесаме Каро из деревни в Алькарас, он же спас стоящего на пути к вырождению, более того — даже почти выродившегося юношу из плена диких страстей...
Повесть, как и все произведения Г. Дочанашвили, излучает большое тепло и любовь к человеку, веру в то, что, несмотря на множество всевозможных препятствий, человечное в человеке всегда преодолеет, победит дикие, низменные инстинкты.
Г. Дочанашвили великолепный рассказчик. Он вызывает интерес к произведению с первой же фразы, и в дальнейшем этот интерес до самого конца ни на мгновение не ослабевает. В его повестях нет ни на йоту скуки, потому что всегда вовремя, кстати меняются настроения, интонации, что исключает опасность монотонности и свидетельствует о большом художественном такте и вкусе писателя. Силен Г. Дочанашвили и в речевой характеристике своих персонажей, проявляя при этом подчас большой талант пародиста.
Благородным персонажам Г. Дочанашвили далеко не всегда удается увенчать свою сложную миссию успехом. Часто они оставляют свое поприще с разбитым сердцем, скорбной душой, но в сознании людей, на которых они пытались воздействовать, все же что-то меняется. Как следствие их настойчивых попыток в умах и душах даже самых строптивых филистеров остается нечто такое, что, нужно думать, в будущем принесет-таки добрые всходы. Так происходит, к примеру, в прекрасном рассказе «Мой Бучута, наш Тереза». «Просветительская» миссия Бучуты, цель которой «исправление» обывателей городка Харалети, с первого взгляда завершается неудачей. Он, казалось бы, не сумел раскрыть этим людям глаза, научить их отличать подлинные ценности от мнимых, но после его отъезда Харалети уже не прежний, старый, харалетцы стали чуть печальней, чем прежде, и научились задумываться. А это не так уж и мало...
Порой писатель уводит нас в дальние страны и отдаленные времена, но о чем бы он ни писал, он всегда имеет в виду в первую голову современника, интересы нашей повседневности, сегодняшний день.
Следует отметить и то, что произведения его, содержащие острую критику насилия, невежества, равнодушия, обывательских устоев жизни, писались и публиковались в годы, которые мы сегодня прямо называем «годами застоя». В этом, должно быть, и одна из причин того, что к творчеству Г. Дочанашвили проявляется большой интерес как в родной его республике, так и за ее пределами (особенно после публикации на русском языке его романа «Одарю тебя трижды»).
У Г. Дочанашвили есть две интересные повести о своей сложной, но в то же время приносящей большую радость профессии — литературе («Дело», «Земля и Вано, и бук, дерево»). В них он порою явно, порой в аллегорической форме декларирует свое писательское кредо, щедро раскрывает свою творческую лабораторию, знакомит со своим отношением к жизни и искусству. «Это, — пишет он, — единственное из всех существующих на свете ремесел, когда все, что бы с тобой ни приключилось, — кроме непоправимого несчастья, — все оказывается тебе на пользу, все хорошо: и постоять в бесконечно длинной, монотонной жужжащей очереди, и устать до чертиков, и поголодать — все это очень даже хорошо; но самое лучшее прислушиваться к бессоннице к неразгаданным звукам ночи, ощущая внезапно накативший страх, оттого, что в этом безлюдье чьи-то лапищи безжалостно сдавили тебе ледяными пальцами ребра; прекрасно также и томительное ожидание, когда ты, взбешенный до последней крайности, все-таки чувствуешь где-то в уголке сердца, что все это может пойти тебе впрок; ведь чего только стоит, приткнувшись где-нибудь в уголке и отвернув лицо в сторону, взволнованно прислушиваться к приглушенному разговору незнакомых людей: ты схватываешь на лету все их неправильные, но такие естественные выражения и жадно их запоминаешь — авось когда-то, где-то, да и пригодятся; и уж нет ничего лучше, — это прямо-таки благодать божья, — как почувствовать себя выздоравливающим после тяжелой, безнадежно затянувшейся болезни».