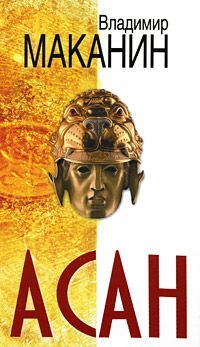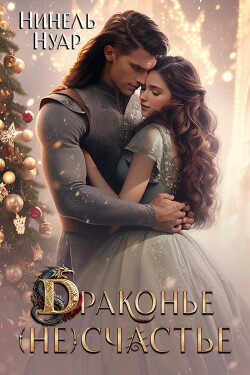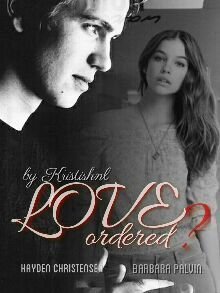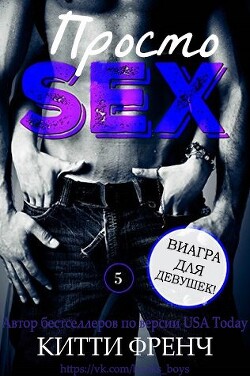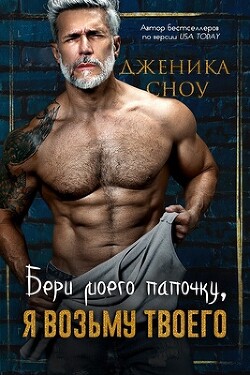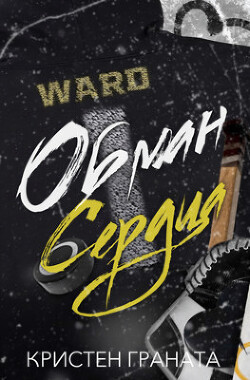Владимир Маканин - Стол, покрытый сукном и с графином посередине

Помощь проекту
Стол, покрытый сукном и с графином посередине читать книгу онлайн
Во времена подвалов уже расспрашивали. И поскольку претендовали на часть души, постольку же приходилось отпускать часть тела. Потому и не могли теперь просто так, без слов и расспросов ставить к стенке — потому и объявился подвал, где можно спросить и где, заодно, с плиток удобно вытирать все жидкое, кровь разбитого носа или твои обычные сопли. Могло случиться, что человек уписывался от ожидания пыток, от беглого взгляда на набор инструментов. Человек как бы и тут ловчил, пытался отдать свою жидкость как часть своего тела, вместо души — пытался отделаться малым и легким. (Это облегчало спрос. А плитки пола быстро-быстро замоет какая-нибудь старуха или свой же брат-подсудный, который поначалу думает, что его только за этим и привели — вымыть полы, замыть вонь.)
Уже важно было повозиться с виновным, порыться в душе: человек упорствовал. Приходилось исследовать его разговоры, его нетвердые или колеблющиеся поступки. Он и сам сначала удивлялся, а потом и ужасался своим колебаниям и мало-помалу признавал — да, было; да, враг. В помощь размышлениям и была боль. (Боль не давала человеку обманывать самого себя.) Один из родственников Бухарина, преследовавшийся уже после знаменитого процесса, рассказывает: «...В известных всем подвальных пытках тех лет меня поразил присутствовавший там бытовой, обыденный ритм жизни. Кровати тех, в чьи руки ты попадал, стояли там же. Некоторые были опрятно застелены. Кто-то из них сидел и шил иглой, когда тебя уже били. Он только изредка поднимал голову на твой крик и продолжал штопку. Казалось, что тут разместилась примитивная мастерская. Правда, жертва кричала, зубы, рот и нос почти сразу были в крови... Заметил я там КРАСИВОГО молодого человека. Он опаздывал на какое-то свое свидание. Он поглядел на себя в зеркало, поправил кепочку и заторопился. «Я пойду. Мне надо. Я потом наверстаю...» — на ходу объяснил он своим сотоварищам, в то время как те продолжали избиение...»
Во времена белых халатов судившим доставалось твоего тела еще меньше. Тело им почти не принадлежало: разве что перед инъекцией можно было растереть ваткой твою вену, можно было позвать-кликнуть медбрата, чтобы тот, заламывая тебе руки, связал тебя, — вот, собственно, и всё.
Но уж зато душа, ум почти полностью были в их власти и в их возможностях. Не зря же свое вмешательство в кору больших полушарий они объясняли твоей душевной болезнью, — вмешательство, в результате которого ты вообще мало на что реагировал. (Если не считать вдруг объявившейся нелюбви к птицам, вспархивающим с подоконника. Но и это проходило. Инакомыслящий превращался в тихое животное, отчасти в ребенка; ел, пил и спрашивал о фильмах, которые изредка им показывали: «Это про войну?» — как спрашивают малоразвитые дети.)
Старый стол, покрытый сукном, как-то особенно ощущал прикосновение графина, его прохладное донышко. (Влажные круги пропитывали сукно до гладкой поверхности стола, постепенно высыхая.)
Эволюция завершилась тем, что спрашивающие уже никак не могут претендовать на тело (даже и в виде уколов, даже и в виде подкормки мозга). Но душа — вся их. (Потому-то они так...) Спрос, который предстоит мне завтра, — это люди, которые будут рыться в моей душе, только и всего.
Руки, ноги, мое тело для них неприкосновенны: ни вогнать пулю, ни забить кнутом, ни даже провести курс «Аленки» — ничего нет у них, и что же тогда им остается, кроме как копаться в моей душе. Так что пусть их. Пусть.
Раскрыть, раздернуть, открыть твое «я» до дна, до чистого листа, до подноготной, до распада личности...
Я знал человека, женщину, которая при мысли о завтрашних расспросах (о предстоящем ей обычном нашем судилище, все равно по какому поводу) сворачивалась телом в клубок, в утробное колечко, и тонко-тонко выла. После этого ей делалось легче. И она даже садилась за телефон поговорить, поболтать с кем-то из приятелей, расслабляя и дальше свою ранимую душу. (Но не с родными, не с домашними. Домашним она говорила: «Вы меня не жалейте: вы мне дайте повыть».)
Я знаю, что я тоже меняюсь как человек — спрос меняет мое «я», хотя, слава богу, не так уж сильно (не так, чтобы выть). Я знаю людей, которые от предстоящего завтра разговора меняются даже в лице, даже в цвете глаз. Их не узнать. У них меняется речь, походка, выражение складок рта, темперамент. Неудивительно, что в такие минуты они подчас задешево меняют друзей. И что предают и обманывают людей, которых, несомненно, любят. Неудивительно — ведь это уже не они.
Ночью, в тяготах бессонницы, я подхожу к темному окну: я даже не знаю, чего я жду? чего хочу?.. Я уже убедил себя, что они за столом — лишь форма жизни, я убедил себя, что завтрашний спрос пустячен. (Но ведь я еще не вполне снял с себя вину.)
Если, переволновавшись, я умру такой вот нелепой ночью в ожидании завтрашнего разговора, я знаю, в чем буду просить прощения у Бога (если я успею просить и если он о вине меня спросит). Да, как все. Да, сначала приучали и приучили. Но даже когда мой ум перерос их выучку, я так и не сумел (вместе с моим умом) выпрыгнуть из образов и структур этой жизни. Так и жил. Во всяком случае, из одного мифа я не выбрался и на полшага. В сущности, я буду просить прощения (и виниться) только в том, что принял суд земной за суд небесный.
Хочется среди ночи пойти в наш скромный районный исполком (где завтра меня будут спрашивать), пройти туда среди ночи, дав инвалиду-вахтеру полбутылки водки, — пройти и посмотреть стол, когда он без сидящих вокруг людей. Потрогать его ладонью.
— Ну?.. Чего ты от меня хочешь?..
Ночь. Не могу уснуть.
Ища, на кого переложить ответственность и ответ (вину), мой мозг среди ночи честно трудится и пашет, располагая, расставляя столы по времени — так меня учили и школили, — я пробиваю время назад, то есть вглубь, где вырисовывается стол-судилище лагерных времен, с его серенькой официальностью, а затем (еще глубже) знаменитые тройки и ревтрибуналы, когда за столом всего трое или четверо сидящих. (И когда слова их совсем кратки. Ты молчишь. Молчишь, потому что ты уже не ты («сдать оружие»), потому что надежды мало: надежды почти никакой. Нависая, давят своды избы. Изба казенная. Печь. Дрова жарко потрескивают. Задающий вопросы нет-нет и поглядывает в сторону пламени. Сидят. Нет графина. Есть зато чайник, старинный темный чайник с длинным лебединым носиком, из которого подливают себе плавной струей в граненые стаканы, никаких чашек. Глотают из стакана, обжигая горло, и вот входит КРАСИВАЯ или почти красивая женщина в кожанке; под кожанкой кофта, ей тепло, она говорит:
— Жарко... Как вы натопили сильно!)
Мысль пробирается еще более вглубь: мысль нащупывает фигуры в темноте далеких времен, а там возникает наконец имя одного из революционеров: Нечаев. Он самый. (Можно бы и еще отступать по времени, но мысль задерживается. Мысль хватает, как хватают первого, кто похож на причину твоих бед.) Я виню его. «Пятерка» так прообразно похожа на все наши суды и судилища. «Пятерка» Нечаева — особое и тонкое место нашей истории, когда передоверили совесть коллективу, и отмщение — группе людей. (Именно Нечаев со товарищи оценили жизнь Иванова и, убив его, от нашего общего имени сказали: «Аз воздам».)
Нечаева заточили до конца его дней в Петропавловскую крепость. (В одиночку: в одиночную тюремную камеру.) И нет сомнения, понимал ли он, какую новую историю он начал, в первый раз убив человека коллективно и под коллективную ответственность — понимал. (Не каялся.)
А в наши дни уже только то, что твое «я» не открывалось и не выпотрашивалось, как вывернутый карман, было ясным знаком, что ты замкнулся и не хочешь открыться коллективу, народу. Знак равенства, кстати сказать, устанавливали сами. (Я громыхаю словами, которые есть теперь во всех газетах. Хочу, чтобы стало легче.)
Ну, хорошо, хорошо, пусть вся моя жизнь — постнечаевщина.
Подумать только: что с чем и кто с кем, оказывается, меж собой повязаны!.. Я, посреди бессонной ночи, с синими от заваривания валерьянки пальцами, уже отсчитавший себе капли (две ложки) и вынувший впрок очередную таблетку клофелина, — я, напуганный и взвинченный нелепым завтрашним вызовом, — с одной стороны. И супермен Нечаев — с другой. Но ведь именно оттуда МЫ и пришли, передоверяющие совесть и душу группе. (Партия всегда права, сказал в свою трагическую минуту умный человек, Бухарин.) Они всегда правы. Освободился?.. Не смеши. Не смеши самого себя. Завтра утром тебе предстоит идти и объясняться с обычными людьми, которые всего лишь иногда будут говорить «мы», и это короткое «мы» приводит тебя в ужас, в страх — разве нет? Завтра ты будешь оправдываться и объяснять, хотя ты уже наобъяснялся за долгую свою жизнь (неужели мало?). Сердце бухает. Перебои. Экстрасистола на втором ударе (опасная, я знаю). И испарина на лбу. Прислушиваясь к ударам, я отмечаю толчки сердца, как падающие капли. (Зависшая на волоске жизнь.) Не вытекла ли вся вода? — вот вопрос. Капнет спаренная капля раз, тук-тук. Капнет другой раз. А потом вдруг стоп — капля призадержалась, зависла, а стука больше нет. Капля висит. Но она не падает. Воды нет.