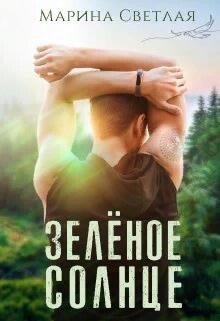Дмитрий Быков - Орфография

Помощь проекту
Орфография читать книгу онлайн
— Ты ни в чем не виновата, Боже упаси. Слушай, миллион мужчин до меня говорили женщине эту роковую фразу — «Ты ни в чем не виновата», и всегда с одной и той же интонацией. Все любовные диалоги множество раз уже проговорены, и всегда с одной и той же интонацией: «Чем я виновата?» — «Ты ни в чем не виновата». Каждый мужчина старается сказать женщине то, что она хочет услышать, а каждая женщина хочет услышать только то, что она ни в чем не виновата… опера, одно слово! — При слове «опера» он отчего-то почувствовал во рту жирный, мыльный вкус.
— Ты так говоришь, словно это я оставила тебя в Гурзуфе.
Удивительно, как она умела все обернуть — и как теперь это умиляло, а не раздражало его.
— Да, конечно, — подтвердил он. — Но ведь обида твоя не столь сильна, чтобы отказать мне в выезде?
— Резолюция есть, паспорт тебе выдан — значит, я сделаю, что должна сделать. У нас произвола нет.
Он отметил это «у нас».
— Но скажи — ведь спросить тебя я имею право? — почему ты едешь и почему именно сейчас? Я поняла бы тебя, допустим, в восемнадцатом — но сейчас, когда погнали Деникина, когда скоро раздавят Колчака?
— Знаешь, мне почти ничего не говорят эти фамилии. Я знаю, что есть какие-то Деникин и Колчак и что они хотели взять Питер и чуть было не взяли его, — но, веришь ли, мое решение никак с ними не связано.
— А с чем же, позволь узнать, оно связано?
— Оно связано с тем, что я устал выбирать из двух, а в России это единственный вариант. Поверь, Таня, я хорошо подумал. И позволь заметить, что я старше тебя на тринадцать лет.
— Это-то и плохо, — натянуто усмехнулась она — Это-то и мешает тебе увидеть нашу правду.
— Таня, я уже видел вашу правду во всех ее вариантах. В том числе и в Гурзуфе. Разумеется, все вы чудные, чудные люди, как ты любила говорить о товарище Трубникове, — но места себе я тут не нахожу, а потому позволь мне связать остаток жизни с другой страной. Ведь и я тебе не нужен больше?
— Ты мне всегда будешь нужен, — почти беззвучно проговорила она, не глядя на него. — Это проклятие, и я ненавидеть тебя готова.
— Я тоже очень люблю тебя, — честно сказал Ять.
— Но почему, почему, Ять? Почему ты не хочешь остаться?
— А почему ты удерживаешь меня?
— Не знаю, — она опустила глаза. — Честно, Ять, не знаю. Ты вправе, конечно, подумать, что мне выдают отдельный паек за то, что я уговариваю отъезжающих.
— Ну, этого-то я не подумаю никогда. Я не Казарин.
— Казарин, кто это?
— Он умер. Очень любил про людей гадости выдумывать. А кстати, паек-то действительно дают? — Он только теперь обратил внимание на то, как она одета: товарищ Лосев не жалел средств. Строгое, до колен платье зеленого бархата, явно пошитое недавно и сидящее на ней идеально; никаких украшений, но часики на серебряном браслете. Впрочем, ей шли и сапоги. Он легко мог представить ее комиссаршей на фронте — и солдаты пошли бы за ней куда угодно, пусть движимые желаниями совсем иного рода, нежели жажда расправы с Деникиным. Удивительно, как из этих хрупких девочек получались большевистские амазонки; впрочем, должно быть, им всегда хотелось чего-то подобного. Не Казарин же, в самом деле, должен был жить с Ашхарумогой, — она могла бы на руках его носить, убаюкивая; нет, только слоноподобный Паша, и Паша ведь далеко еще не худший вариант!
— Паек мне дают. — Она зло сощурилась. — Это все, что тебя интересует?
— Почему, интересует многое, — но ведь мы теперь не об этом говорим. Я пытаюсь понять, почему ты не хочешь меня отпустить.
— Я не могу отпускать или не отпускать. Мое дело — получить для тебя визу. Но пойми, — она снова вскочила, — я сама не все себе объясняю. Я только чувствую, что с твоим отъездом что-то кончится, теперь уже насовсем.
— Все давно кончилось, Таня, — удивляясь собственному спокойствию, сказал он. — Говоря театрально, доигрывается эпилог. Уже и сейчас нельзя ничего изменить — нас, может, для того и свели, чтобы мы ясно увидели, как далеко разлетелись. Я смотрю на тебя — и впервые в жизни не могу тебя обнять.
— Ну, это просто, — она улыбнулась совсем прежней улыбкой и подошла к нему вплотную, однако, секунду постояв рядом, отшатнулась в ужасе.
— Вот видишь, — виновато сказал он.
— Ты совсем другой, — прошептала Таня. — Совсем, совсем другой…
— Ах, Таня, ну к чему это? Это так мелодраматично… Просто вокруг все другое до неузнаваемости, вот и мы с тобой ничего теперь не можем понять друг в друге. Понимаешь ли ты теперь, какая эфемерная штука человек? Он думает, что решает, — а ведь мы с тобой ничего не в силах решить. В одно время мы одни, в другое — другие, и разные токи идут через нас. В общем, чтобы это понять, уже стоило увидеться.
— Ять, — она и впрямь никогда не видела его таким, — неужели тебе не…
— Неужели тебе не хочется остаться со мной? — закончил он. — Нет, Таня, не хочется. Чем дальше от тебя, тем ближе к себе — по крайней мере пока; хватит переваливать себя на кого попало. Ты, конечно, не кто попало, но слава Богу, что я вовремя тебя освободил от своей пустоты. Она есть и в тебе, конечно, — но у тебя впереди больше времени, успеешь наполниться. Впрочем, тебе тоже здесь надоест, но на этом посту проще устроить себе выезд.
— Но что ты будешь там делать?! Ты никому там не нужен, а здесь будешь нужен всем! Революция кончилась, Ять, начинается другая жизнь, в которой надо будет учить детей, писать книги, делать стихи! (Он мельком отметил конструкционистское «делать стихи»; что ж, Корабельников так говорил еще в пятнадцатом) Ты не представляешь себе этих людей, Ять, ты никогда не знал их! Нельзя же обо всех судить по одному сумасшедшему эсеру. Среди наших есть люди европейского, мирового уровня, они мир перевернут, ты через два года не узнаешь Россию.
— Да я ее давно не узнаю. Всё, Таня. Скажи, когда прийти.
— Тебя пригласят, — сухо сказала она.
Он пошел к дверям; она смотрела ему вслед — он обернулся и поймал этот взгляд, не любовный и не страдальческий, на который он смел рассчитывать, а снисходительный, почти высокомерный: женщина, сделавшая правильный выбор, смотрела вслед заблудившемуся подростку, никак не желавшему двинуться по единственному пути. Удивительно, как влияет на человека Правильный Выбор! Боже, да ведь, оставаясь тут, она жалеет его! — и в этот миг он пожалел ее, как никогда в жизни.
— А знаешь, Таня, — сказал он бодро, — ты, может быть, и права. И придут в эту школу другие дети, и во время очередного диктанта — уже, слава Богу, без всяких ятей — будут так же, как мы, смотреть в окно, чувствовать всю эту весеннюю вольницу, с наслаждением предвкушать звонок. И, разумеется, все гимназисты будет влюблены в девочек из соседней женской гимназии — многие еще будут влюблены и после нас.
— Мы за совместное обучение, — сказала она наставительно. Это было последнее, что он от нее услышал.
Есть и в этом особенный смысл, думал Ять, жадно закуривая и останавливаясь посмотреть на воробьев, купавшихся в лужах. Да, совместное обучение — великая вещь; мы с нею всегда жили врозь, а потому всему учились раздельно. Как знать, живи мы вместе, я мог бы научиться у нее жизнеприятию, а она у меня — недоверию; как знать, живи мы вместе… Но зачем, ведь все кончилось — а я не заметил как. Вот что значит — вторая половина жизни: все совсем по-другому, и я не люблю ее больше, словно тот я действительно кончился… Его еще можно, наверное, извлечь из-под завалов памяти, из-под пластов ненависти к себе, — но, очнувшись, этот бледный покойник только захлопает полупрозрачными веками: где я? зачем вы меня разбудили? Я давно уже — собственная загробная жизнь, не вторая и, может быть, даже не третья; Бог весть, сколько их еще будет. Какое было дело воскресшему Лазарю до сестры и матери? Почему я так спокойно выношу то, что еще два года назад взорвало бы мой мир? — да потому, что я другой и мир другой, и, Господи, как же разумно ты все устроил! Кроме этого доверия к тебе, доверия подмастерья к мастеру, ничего не уцелело во мне. Мимо промчались, держась за руки, мальчик и девочка, — и он снова спокойно и радостно подумал, что уже совсем скоро в торсуновской гимназии будут учиться дети; он представил их ранцы, фуражечки, башлычки, их гогот и гвалт, невыносимый для запуганного гимназистика-слабака, но умилительный для взрослого слуха; наконец, кажется, я повзрослел и могу умиляться всему — ибо ничто здесь уже ко мне не относится; это и есть единственное преимущество возраста. Скольких я боялся, скольких незаслуженно ненавидел или понапрасну любил — а все потому, что был слишком живым; теперь я жив ровно настолько, чтобы ничего не принимать всерьез…
Был прелестный, лучший час весеннего дня — перелом к вечеру; глубокая небесная синева, какой не бывает больше в году — разве только в августе, когда умирает лето, — куполом стояла над Литовским проспектом. Лучились невыбитые стекла верхних этажей, пищали воробьи, кричали дети в соседнем дворе; такого умиротворения он не испытывал давно.