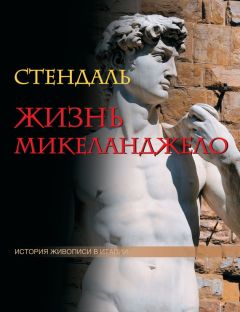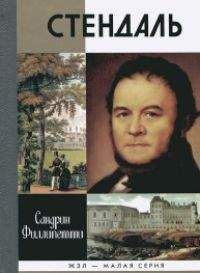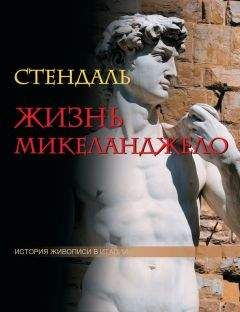Инна Гофф - Рассказы-путешествия

Помощь проекту
Рассказы-путешествия читать книгу онлайн
– Осина гнилосердцая, – говорит Ямашев. Звучит это как изысканное ругательство.
Какая выразительность в «лесном» языке! Сама природа учит этому. А как точно сказано о худом дереве, что оно растет морковкой, то есть сужаясь к вершине?!
– Докторов любит лес, – говорит Ямашев. – Он как-то на исполкоме сказал: чтобы вырастить дерево, нужно восемьдесят лет, а чтобы дурака вырастить – двадцать… Не прощает, когда лес губят!..
Девять лесных обходов, девять лесников. Кроме того, два техника-лесовода, помощник лесничего и сам лесничий. Этим людям доверено охранять и воссоздавать лес. «Рубки ухода», когда из леса удаляют больные деревья и те, что мешают росту ценных пород. И посев питомников. И противопожарная вспашка. И дополнение лесных культур новыми для этих мест…
А сбор шишек! Сто килограммов шишек дают один килограмм семян. Это уже зимой, с середины декабря до конца января…
– Плохо у нас с рабочей силой, – жалуется Ямашев. – В лесничество никто не идет. Зарплата небольшая. Высшая ставка у лесничего – девяносто пять рублей, низшая у лесника – шестьдесят… Ну как тут с химкомбинатом тягаться?.. Там ставки в три раза выше. В забросе пребываем. Все внимание сейчас сельскому хозяйству, а роль лесничества упала. Когда-то лесничий фигура была! А теперь что? Лошадок казенных и тех покормить нечем – не выделено места для косьбы! Зря! Академик Анучин говорит, что от лесхозов только бумаги растут, а лес – от лесничеств…
Нелегкое положение у Ямашева. Лес начинается в пригороде. Лесника, живущего в городской черте, не выручит даже хозяйственность. Пасеки не заведешь, скотину держать негде. Сезонника тоже привлечь нечем. Раньше нанимались работать за сено – теперь мало кто коров держит, за дрова – теперь всюду газ. Даже, в поселке газ провели!.. Вот и вчера один лесник уволился.
– Лесопарковая зона опять без лесника! – говорит Ямашев. – А ведь она самая опасная в пожарном отношении!
Я разглядываю плакат на двери конторы: «Лес твой друг. Береги его!» После слов лесничего это звучит укором…
Наш лес. Лес, где нас ждут грибы на своих местах. Боровик в шляпе из коричневого бархата, подосиновик в кирпично-красном капоре, подберезовик в серой панамке, сыроежка в синем берете и скользкий, едва вылупившийся, масленок в желтом шлеме. Они нас ждут, а иногда говорят нам – «зайдите завтра!». Зато, возвращаясь с добычей, на вопрос, где мы набрали грибов, отвечаем загадочно, как подобает грибникам:
– В лесу!..
Мы обедаем грибами. Жарим их с луком и сметаной. Насколько они вкусней тех, что бабки продают кучками, уверяя легковерных покупателей, будто червь в них и не ночевал… А если и был один, то лишь «провод»… «Проводом» в наших местах называют твердого чешуйчатого червяка, который не портит гриб, а проедает его насквозь и уходит, оставив два отверстия – входное и выходное, – как от продетого провода…
Писатель Иван Лажечников в романе «Немного лет назад» описывает встречу в этом лесу с незнакомцем.
«– Чего ты боишься? – повторил я.
– Испужался, сударь, словно вы передо мною с сосны свалились. У нас пошли новые распорядки, как француз стал управлять нами. В лесу этом запрещено брать грибы и ягоды, а я имею билет только на другие угодья…
– Как билет?
Он вынул из жилета зеленую бумажку. На ней напечатано было красивым английским шрифтом, с разными фигурами и атрибутами, что предъявитель сего имеет право собирать грибы, ягоды и прочие фрукты (курсив Лажечникова) в рощах и лесах госпожи статской советницы К. А. Можайской, а кто пойман будет без билета или попадется в рощах господского сада, с того берется штрафу 1 руб. серебром…
– А за билет берут деньги?
– Грех сказать, не берут, выдают даром из конторы. На будущий год, говорят, будут голубые, а на предбудущий красные…»
Это наш лес. В лесничестве он значится как «третий обход». Здесь собираем мы грибы, ягоды и прочие «фрукты» без всякого билета. Сколько раз мы обходили эти места! Здесь знакома мне каждая просека, каждая поляна. Наш лес – это ландыши, незабудки, фиалки. Шум осин, лепечущих что-то в свое оправдание. Жаркое дыхание соснового бора и березовая роща, куда приводит одна из просек. Сначала березы только с одной стороны, а потом и с другой, и со всех сторон… И даже жуть берет от этой белизны, как бывает жутко в безвыходном сне…
Я особенно люблю ярко озаренные стволы берез перед стеной густого леса. В глубине его те же березы тускло кое-где просвечивают в сумраке разнородной чащи.
Как белы они перед закатом!
И еще я люблю невысокое солнце между стволов, когда свет будто пробегает по лесу на четвереньках.
…А где же на карте усадьба «Дубки»? Этот ветхий, потемневший от времени бревенчатый дом с четырьмя фальшивыми колоннами на обоих фасадах и овальными окнами построила для своей дочери княгиня Ливен. Перед фасадом, обращенным к реке, тянется ряд вековых неохватных дубов, давших усадьбе название, – когда-то они были «дубками»…
У княгини Ливен было трое детей – сыновья Андрей, Петр и дочь Маша. Андрей был бездельником и шалопаем, Петр – домашние звали его Петрик – книгочием и полиглотом. В библиотеке ливенского дома-дворца, по воспоминаниям В. Афанасьевой, бывавшей там в 1910–1911 годах и приславшей мне большое письмо с фотографиями тех лет после публикации этих записок и журнале «Москва», было большое собрание книг на русском, французском, немецком и английском языках, и на каждой была надпись – «Петрик Ливен».
Петрик был деятельным, энергичным. Всегда в кругу деревенской молодежи. Это ему принадлежит заслуга создания первой футбольной команды в своей округе.
Но теплее других вспоминают Машу.
Говорят, что княжна была необыкновенно хороша собой. Против воли матери она вышла за музыканта Большого театра, скрипача Конюса, годами много старше себя, и бежала с ним из дому. Со временем мать простила ее, но пожелала, чтобы «молодые» жили отдельно. И построила им этот дом поодаль от себя, в лесу. Вскоре началась революция. Ливены бежали за границу. Дом даже не успели оштукатурить.
После Великой Отечественной войны кто-то из воскресенцев встретил в Маньчжурии пожилую даму. Она жадно расспрашивала о Спасском, об имении в парке, о доме в «Дубках» и плакала… Это была Маша Ливен, бывшая красавица, обносившая в престольные праздники крестьян конфетами на подносе.
Крестьяне ее любили. За красоту, за веселый, простой нрав. За своеволие. До сих пор передают историю ее побега. Как она отправилась вечером на верховую прогулку, взяв с собой старого слугу. Как они переехали реку и достигли Рязанской дороги. Здесь Машу ожидала коляска. На глазах оторопевшего слуги Маша пересела в нее.
– Отведи мою лошадь домой, – сказала она. – Я не вернусь…
Должно быть, все это вспоминала, плача, пожилая дама, встретив своего земляка, советского солдата, за тысячи верст от этих мест.
С семьей князей Ливен года три назад я встретилась также, читая воспоминания В. Шверубовича, сына В. И. Качалова.
Семья Качаловых лето 1908 года гостила в Спасском. Одновременно с ними в Спасском гостил художник Константин Коровин, писавший там свою жену, Надю Комаровскую, на завитой хмелем террасе.
«…Надя Комаровская в красной шелковой кофте позировала ему для пятна-контраста».
В лесничестве я впервые услышала о Покровском. Я спросила Ямашева, сколько лет тем громадным пушистым лиственницам и темным елям, что растут у «Россетовской» поляны.
– Это посадки девятьсот десятого года, – сказал лесничий. – Учитель Покровский сажал тут лес со своими учениками…
«Учитель Покровский со своими учениками». В этом было что-то апостольское. Мне захотелось больше узнать об этом человеке. Люди, знавшие его, живо откликнулись. Я познакомилась с его учениками, с его детьми, – своих детей было у Покровского девять, жена умерла девятым, – с бабушкой Дашей, помогавшей вдовцу вырастить сирот, со старым учителем Соболевым… И передо мной предстала еще одна незаурядная личность, личность Учителя. Сорок лет Николай Федорович Покровский учительствовал в этих местах. Основал народный крестьянский хор, который славился на всю округу и выступал в Бронницах, в Раменском, даже в Москве. Покровский был не только руководителем хора. Он сам прекрасно играл на скрипке. Однажды, аккомпанируя солистке, он вздрогнул от ее неверной ноты. Струна порвалась и повредила глаз. Все помнят Покровского с черной повязкой на глазу, которую он никогда не снимал.
Удалось мне увидеть и его фотографию. Небольшого роста, плечистый, волосы зачесаны назад, открывают высокий лоб. Он стоит среди учеников, – может быть тех самых, с которыми сажал лес… И другая фотография – Покровский в гробу. Умер он в сороковом году. Был он тогда уже глубоким стариком, но работу в хоре не оставил и в тот день спешил на спевку…