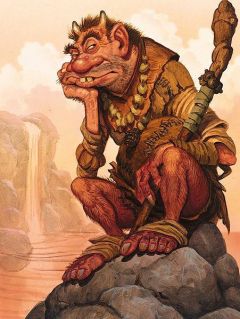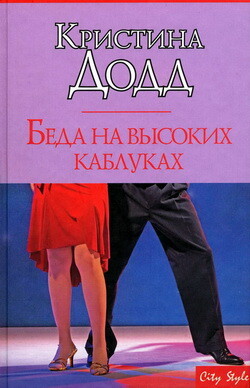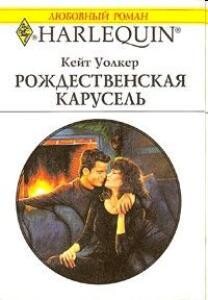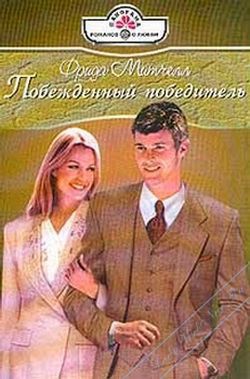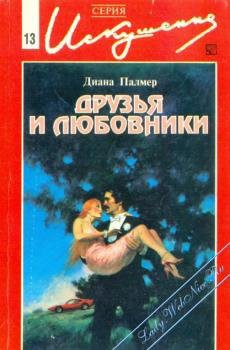Луиджи Пиранделло - Записки кинооператора Серафино Губбьо
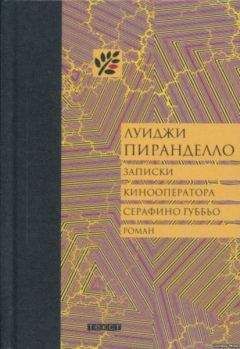
Помощь проекту
Записки кинооператора Серафино Губбьо читать книгу онлайн
Что прикажете делать со всем этим добром? Я на месте. Обслуживаю свою машинку, в смысле — верчу ее, чтобы она могла поедать. Душа? Душа мне для этого не нужна. Мне нужна только рука, вернее, не мне, а машинке. А душу, жизнь на съедение машинке, ручку которой я верчу, должны предоставить вы, уважаемые господа. Я же, с вашего позволения, развлекусь, глядя на продукт, который она выдаст. Отличный продукт, обхохочешься, гарантирую.
Мои глаза и уши в силу долгой привычки уже видят и слышат все, что несет в себе это дрожащее, вибрирующее механическое воспроизводство.
Не спорю, с виду все легко и непринужденно. Жми, полетели! Скорость вызывает такое чуткое, трепетное, остро щемящее чувство и уносит с собой все мысли. Давай, мчись вперед! Скорее, чтобы не оставалось времени сосредоточиться на гнетущей тяжести грусти, на растерянности и безнадежно поникшем духе из-за внезапно нахлынувшего чувства стыда, остающегося где-то на дне под спудом. Снаружи — фейерверк искрящихся брызг, нескончаемое сверкание: все искрится, мерцает и исчезает.
Что такое? Да так, ничего, уже все прошло. Похоже, что-то было неладно, ну да ничего, проехали.
Но есть непреходящая пытка. Слышите? Гудит, как шмель, не переставая, то глухо, то сердито, то вдруг взрывается и жужжит, жужжит беспрестанно, откуда-то оттуда, не переставая. Что это? Гул телеграфных столбов? Визг дуги электрического трамвая, скользящей по проводам? Лязганье несметной армады станков, по цепи передающееся от дальних к ближним? Рев автомобильного двигателя? Треск киноаппарата?
Биения сердца не замечаешь, пульса не слышишь — беда, коль услышишь! А вот этот гул, это жужжание — слышишь, и оно отчетливо говорит тебе, что вся эта безумная гонка, это мелькание изображений, возникающих и исчезающих с головокружительной быстротой, — все это неестественно, ненатурально, что за этим скрывается механизм, который, похоже, мчится за нами вдогонку и скрежещет.
Заглохнет ли он когда-нибудь?
Ах, лучше не вслушиваться, иначе ярость будет расти, и долго этой пытки не вынесешь. Рехнешься.
В ничто, все глубже и глубже в ничто следует вслушиваться в потоке бесконечного, неразборчивого гула, который поглощает тебя и от которого все мешается в голове. Ловить миг за мигом летящую смену лиц и историй — и вперед, пока этот гул не стихнет для каждого из нас навсегда.
III
Из головы не выходит человек, которого я встретил год назад, в вечер своего прибытия в Рим.
Был ноябрь, сырой и промозглый вечер. Я бродил в поисках недорогого пристанища не столько для себя — друг летучих мышей и звезд, я привык проводить ночи под открытым небом, — сколько для своего чемоданчика, в нем был весь мой дом, и я оставил его в вокзальном хранилище. Тогда-то я и наткнулся на своего друга из Сбссари, которого давно потерял из виду, — Симона Пау, человека без предрассудков и большого оригинала.
Выслушав, в каком жалком положении я нахожусь, он предложил мне переночевать в своей гостинице. По дороге я рассказал ему о своих бесчисленных злоключениях и о тех слабых надеждах, которые привели меня в Рим. Время от времени Симон Пау запрокидывал голову, его длинные до плеч волосы были разделены по моде Назарета на прямой пробор, который в действительности был кривым, поскольку волосы зачесывались пальцами. Заложенные неопрятными прядями за уши, они собирались сзади в смешной, жидкий и неровный хвостик. Приостанавливаясь, он выдыхал клубы дыма, слушая мой рассказ с открытым ртом, с мясистыми, вывороченными наружу губами — точь-в-точь античная комическая маска. Мышиные глазки — хитрые и юркие, взгляд бегал из стороны в сторону, словно попал в ловушку его крупного, грубо слепленного лица — лица жестокого и безвредного деревенского мужика. Я думал, он так долго не закрывает рта, потому что собирается посмеяться надо мной, над моими бедами и надеждами. Но вдруг я увидел следующее: он остановился посреди улицы, которую караулили зловещие фонари, и громко в ночной тишине произнес:
— Извини, а откуда мне знать, что гора — это гора, дерево — дерево, а море — море? Гора есть гора потому, что я говорю: «Вон то — гора». Из этого следует, что я и есть гора. Кто мы? Мы то, чем в данную минуту себя ощущаем. Я — гора, я — дерево, я — море, а также звезда, которая о себе ничего не знает.
Я опешил. Но ненадолго. Ибо и во мне сидит вросший корнями в самую глубь моего естества тот же недуг, что и у моего приятеля.
Этот недуг, по-моему, убедительней всего доказывает, что все происходящее происходит потому, что земля создана не столько для людей, сколько для животных. Ибо у животных от природы есть ровно столько, сколько им надо, сколько необходимо, чтобы выжить в условиях, в которые они, сообразно своей разновидности, были помещены; тогда как люди наделены большим: они наделены тягой к излишеству, которая их бесконечно и совершенно зазря терзает; из-за нее они вечно недовольны любыми условиями жизни и постоянно испытывают чувство неуверенности, тревожатся о своей судьбе. Необъяснимая тяга к излишествам, создающая фиктивный, выдуманный мир, имеющий смысл и значение только для людей, которые, не удовлетворенные этим миром, без конца, без устали, не зная покоя и отдыха, вечно меняют, переделывают его, как игрушку, выдуманную с целью объяснить (и тем самым исчерпать) деятельность, у которой нет ни цели, ни оснований, и это лишь усугубляет их мучения, все больше отдаляя от законов, которые природа создала для жизни на земле и которым остаются послушны только звери.
Мой друг Симон Пау искренне убежден, что он выше животного, на том основании, что животное не обладает знанием и довольствуется повторением одних и тех же действий.
Я тоже убежден, что он перерос животное, хотя мое убеждение строится на иных основаниях. Что проку в том, что человек не удовлетворяется повторением одних и тех же действий? Основные действия, обеспечивающие жизнедеятельность организма, он, подобно животным, должен, положим, повторять ежедневно, если, конечно, не хочет откинуть концы. Что же касается остальных действий, лихорадочно перетасованных и переделанных бессчетное количество раз, — не может быть, чтобы человек рано или поздно не увидел, что все это иллюзия и суета, плод, всего лишь плод того излишества, у которого здесь, на земле, нет ни цели, ни основания. И вообще, кто сказал моему другу Симону Пау, что животное не обладает знанием? Оно знает ровно столько, сколько ему необходимо знать, и не отягощает себя ничем лишним, ибо у животного нет тяги к излишествам. А человек, в жизни которого излишеств хоть отбавляй, мучается такими вопросами, которым на земле не суждено найти решения. В этом-то и состоит его превосходство! Вполне допустимо, что его мучения как раз и есть знак и доказательство (но только не залог!) существования другой, неземной жизни. Но поскольку на земле все устроено так, как устроено, мне кажется, я прав, когда утверждаю, что земля создана скорее для животных, чем для людей.
Боюсь, что меня неправильно поймут. Я имею в виду, что человеку на земле уготовано гнусное житье потому, что в нем заложено больше, чем требуется, чтобы жить на ней хорошо, в достатке и довольствии, в мире и согласии с собой. То, что есть в нем (и в силу этого он человек, а не животное), для земли действительно излишек — доказательством тому служит факт, что этот «излишек», из-за которого человек ни в чем не находит здесь ни успокоения, ни утешения, заставляет его искать и вопрошать за пределами земного бытия, за что такая мука, и требовать удовлетворения. И тем хуже человеку живется здесь, чем больше ему неймется, чем лихорадочнее он вовлекает свое стремление к излишеству в создание на земле химерических, безумных, до крайности запутанных и сложных построений.
Я — тот, кто вертит ручку, — знаю об этом не понаслышке.
Вот что примечательно в моем друге Симоне Пау: он думает, что полностью освободился от всех «излишеств», свел до минимума свои потребности, лишил себя удобств и влачится по жизни, как увесистый голый слизняк. Он не видит, что, доведя себя до такого состояния, он как раз, наоборот, с головой погрузился в излишество, купается в нем и ни о чем другом не помышляет.
В тот вечер, оказавшись в Риме, я всего этого еще не знал. Я знал Симона Пау, повторяю, как большого оригинала, как человека, лишенного предрассудков, но не мог предположить, что его оригинальность и непредвзятость доведены до такой степени, об этом расскажу ниже.
IV
Мы дошли до конца корсо Витторио-Эммануэле[1] и миновали мост. Помню, с каким чувством восторженной, благоговейной оторопи смотрел я на круглую глыбу замка Святого Ангела, высокого и такого величественного в темном небе под слабым мерцанием звезд. Под ночным покровом кажется, что великие человеческие творения и небесные созвездия прекрасно понимают друг друга. В леденящей сырости этой необъятной ночной декорации я вдруг почувствовал, как моя подавленность резво подпрыгнула и рассыпалась по телу мелкой дрожью, спровоцированной, быть может, блеском огней с дальних мостов и дамб, змеившихся по непроницаемо черной, таинственной воде реки. Но Симон Пау вырвал меня из состояния восторженного созерцания, направившись сперва к собору Святого Петра, а затем вдруг свернув в переулок Виллано. С переполнявшим меня чувством неуверенности, которое внушала незнакомая дорога, да и вообще все вокруг, в пустом кошмаре безлюдных улиц с причудливыми тенями, которые, подрагивая в рыжеватом свете редких фонарей, раскачивавшихся от малейшего дуновения ветра, пробегали по стенам старых домов, я с ужасом и с подступавшей к горлу тошнотой думал о людях, которые так спокойно спали в этих домах, не подозревая, чем их дома казались снаружи тому, кто потерянно брел в ночной темноте, ибо нигде не было для него ни дома, ни пристанища. Время от времени Симон Пау опускал голову и тыкал себя в грудь двумя пальцами. О да! Он был горой, деревом, морем, но где же гостиница? Где? В Борго-Пио[2]? Да, здесь, рядом, в переулке дель Фалько[3]. Я поднял глаза: справа было внушительных размеров мрачное строение под фонарем — большой висячий фонарь, пламя зевало сквозь его грязные стекла. Я остановился перед приоткрытой входной дверью и прочитал над аркой: «ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ».