Ольга Седакова - Три путешествия
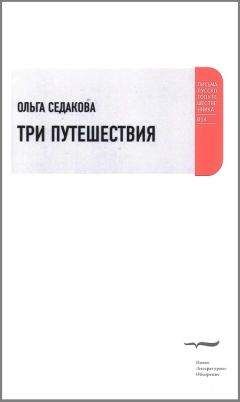
Помощь проекту
Три путешествия читать книгу онлайн
16
Знаменитая песня на стихи Евтушенко «Хотят ли русские войны?» О том, что мы не хотим войны, говорили и пели везде. Звучало это как грозный военный марш и называлось: «борьба за мир». Средняя школа была милитаризована, во всех высших учебных заведениях была военная кафедра. На «военную подготовку» в школе (где подростков учили даже обращаться с автоматом Калашникова) отводилось все больше учебного времени. Это и было подготовкой к «борьбе за мир во всем мире»! «Борьба за мир» была едва ли не главной темой советской пропаганды брежневского времени — СССР был «оплотом мира на земле». Миролюбивые акции были своеобразны. В частности, вторжение в Прибалтику и Западную Украину называлось в учебниках истории «борьбой за мир накануне войны». Такой же миролюбивой акцией было и введение войск в Прагу, и вторжение в Афганистан (все это — ради предотвращения готовящейся войны). Недавнее время добавило к этому «принуждение к миру», как назвали военный конфликт с Грузией. Миролюбие нас не покинуло. Официальным титулом Брежнева было: «великий борец за мир во всем мире»*.
* Первое глубокое исследование «советского миролюбия в брежневскую эпоху», а также дефектной памяти о нем осуществила Галина Орлова («Танки в поле дыр-дыр-дыр Все мы боремся за мир». — Неприкосновенный запас. № 53, 2007), удивительный интерпретатор советского воспитательного проекта.
17
Из «Песни о Соколе» Максима Горького. Каждый советский школьник учил это наизусть: «Безумству храбрых поем мы песню, безумство храбрых — вот мудрость жизни!», хотя прекрасно понимал, что «в наше время» с безумной храбростью можно только исполнять приказы. Горький пел свою ницшеанскую песню революционерам; в нашем случае речь идет о беглецах. Самовольно покинуть родину было, пожалуй, потруднее, чем сбежать из тюрьмы.
18
В 70-е — 80-е годы отчаянные люди предпринимали самые невероятные способы преодолеть железный занавес, такие, как названные здесь. Об удавшихся и неудавшихся побегах можно было узнать только по «вражьим голосам» (радиостанциям «Свобода», «Голос Америки», Дойче Велле, Би-би-си), пробивавшимся сквозь «белый шум» глушилок.
19
Таинственный — обычный эпитет России и всего русского («таинственная русская душа»). Множественное число здесь потому, что таким смертельно опасным образом бежали не только из России и не только из СССР: из Восточной Германии, из Польши, из Румынии…
20
Сбывшаяся утопия сопоставлена с нехристианскими образами посмертного блаженства, а также с метафизическим пейзажем Леонардо, который виден только извне, зрителю картины, но не ее персонажам. Советский человек должен был, с одной стороны, быть целиком устремленным в светлое будущее, с другой же — ощущать, что он уже в нем, хотя ему это и не видно, как леонардовские пейзажи в окнах за спиной портретируемого ему не видны.
21
Классическая одновременно в обычном смысле (тогда это метафорическая труба классической поэзии) и в специальном: tuba classica, военная труба (лат.).
22
Мотив карантина для русского читателя связан с пушкинской темой: все помнят известный эпизод из его биографии, когда холерный карантин не давал ему покинуть деревню; оставалось только писать. Этот мотив отсылает также к «Пиру во время чумы».
23
Бертран де Борн — прославленный провансальский трубадур (+ ок. 1207), рыцарь из Гасконии, особенно знаменитый своими военными и политическими стихами. Данте, высоко оценивая поэтический дар Бертрана, тем не менее, поместил его в Восьмой круг своего ада, к разжигателям раздоров (Inf., XXVIII, 112–142) за то, что он подбивал «Молодого Короля» выступить войной против отца, Генриха II. Эзра Паунд, споря с Данте, заявил, что он вытащил Бертрана из ада, перелагая его «поджигательскую» сестину «Альтафорте»*.
* См. перевод этих стихов: «Весь этот чертов Юг воняет миром». — Седакова Ольга. Указ. изд. С.326.
24
Имеется в виду «Плач по молодому английскому Королю» Бертрана де Борна, написанный на смерть короля Генриха Плантагенета, младшего брата Ричарда Львиное сердце*. Сопоставление с провансальским образцом выглядит трагикомично. Бертран де Борн говорит о судьбе молодого короля, окруженного лучшими людьми страны, в котором все видели надежду и будущее королевства, в том числе, победоносную войну. «Властитель», герой «Элегии, переходящей в Реквием», — дряхлый больной старик, доживавший жалкую старость, ведущий безнадежную и непопулярную войну, само воплощение геронтократической власти, без будущего, без характера, без талантов… Тем не менее, формула бертрановского «Плача»:
Смерть-Госпожа! ты многих поразила,
Ударив в молодого Короля —
действует и здесь.
* См. перевод ОС, сделанный непосредственно перед тем, как писать «Элегию». — Указ. изд. С.331.
25
Первый — Л. И. Брежнев, второй — Ю. В. Андропов (см. выше, «История текста»). Впрочем, и первая, и вторая, и уже стоящая в дверях в это время третья смерть, совсем уже нереального К. У. Черненко, описаны здесь, как одна: смерть большой и плохой эпохи.
26
Перестроенная фигура из знаменитой пушкинской строфы в «Клеветникам России» (1831):
От финских хладных скал до пламенной Колхиды…
Как видно, южный вектор здесь продлен до Пакистана, а контрастные эпитеты убраны. Дело тут не в климатическом размахе страны.
Пушкин, подхватив у Батюшкова («Переход через Рейн») этот способ очертить географическое величие России от края до края, сильно и умно сжал батюшковский список. Здесь он сжат еще раз. Остаются всего четыре координаты: с севера на юг и с востока на запад. От скал до гор, от островов до долин. Причем каждая из этих точек — оспариваемая: наша она или не наша, и с каких пор? Эта тема спорных границ продолжает другие империалистические стихи Пушкина:
Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Кроме того, к размаху на плоскости — на карте — здесь присоединяется еще вертикальный вектор: от подземной бездны — до космической. И залежи нефти, и освоение космоса — знаки современности, новая национальная гордость (впрочем, о нефти тогда еще совсем мало думали: это тема наших дней). И Батюшкову, и Пушкину весь этот планетарный географический размах страны был нужен как неопровержимый, наглядный аргумент в споре с внешним врагом. Здесь намечена другая всеобщая мобилизация: для плача.
27
«Отправившиеся в скорбный путь». Измененная цитата из «Последования панихиды»: «В путь узкий хождшие прискорбный», т. е.: «избравшие узкий и трудный путь». Оригинал имеет в виду тех, кто решил следовать Христу.
28
Цитата из Бертрана де Борна (см. выше /В файле — примечания № 23, 24 — прим. верст./) и отсылка к грандиозному средневековому образу триумфа Смерти, которая владычествует миром.
29
Последняя строка из пушкинской «Осени». В нашем случае это и пушкинский вопрос о продолжении письма (о чем же дальше пойдет речь?), и вопрос об историческом будущем (корабль как традиционный символ государства), и о судьбе души (традиционный символ гроба как ладьи, неожиданно оживший у В. Маяковского:
…гроб этот красный, к Дому Союзов
Плывущий на спинах рыданий и маршей).
30
Герион — персонаж греческой мифологии. В версии Данте — чудовище, переливающееся всеми цветами
Con piu color sommese e sopraposte
Non fer mai drappi Tartari ne Turchi —
(с таким множеством цветов, тканых и расшитых, Никогда не делали тканей ни татары, ни турки. Inf. XVIIб 16–17), символ обмана, сторож Восьмого круга ада, где заключены лжецы и обманщики. Верхом на Герионе Данте и Вергилий спускаются в нижний Ад, в Злые Щели.
31
«Се ми гроб предлежит, се ми смерть предстоит». Из молитв «На сон грядущим».
32
Ныне некоторые из этих уничтоженных «по религиозной статье» священников, монахов, мирян, зарытых в общих рвах без каких-либо надгробных знаков, причислены к лику святых, новомучеников и исповедников Российских. Во время сочинения «Реквиема» никто их святыми еще не называл и вообще остерегались упоминать — даже на церковных богослужениях. Как все жертвы режима, новые мученики должны были полностью исчезнуть из общей памяти. В последние десятилетия имена их восстанавливаются, места погребения разыскиваются.

























