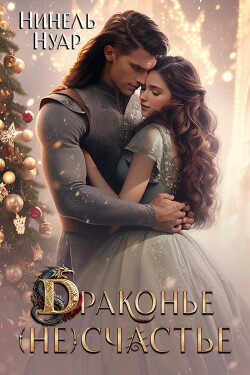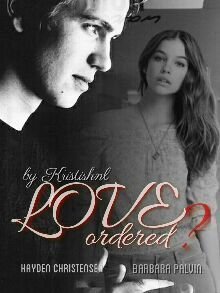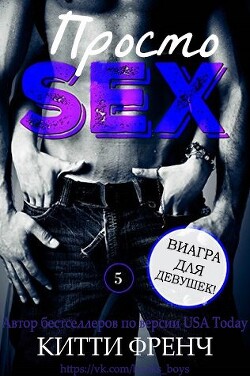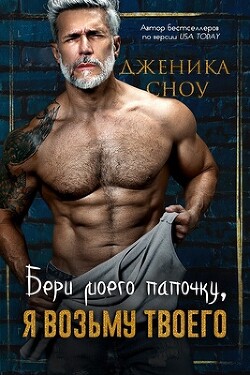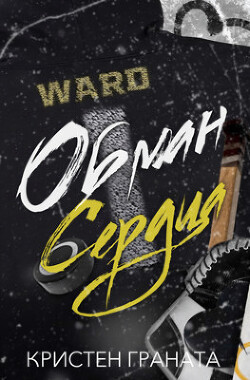Ольга Кучкина - Послание к римлянам, или жизнь Фальстафа Ильича

Помощь проекту
Послание к римлянам, или жизнь Фальстафа Ильича читать книгу онлайн
В траттории, в которой они обедали с Занегиным, она бросила ему глупую фразу: изменил женщине, изменил родине — в одном флаконе. Анекдотические (рекламные) фразы, анекдотические случаи высвечивают пошлость, которая, кажется, может затронуть всех, но не тебя. Ан нет: и тебя, и тебя, матушка, не минует, не возносись, чем выше вознесение, тем больней падение, а как вознестись и не упасть, а улететь, знал только один человек на этой грешной земле, и тот через боль.
Больно было и прошло. Осталась скука, которая хуже, чем боль. Сразу по приезде Ада поехала на Каширское шоссе навестить мать. Был теплый день, пациентов выпустили гулять на улицу. Они стали попадаться Аде еще по дороге к больничному зданию. Дорога пыльная, зелени мало, они брели, шаркая ногами и вздымая небольшие облачка сухой пыли, бесцельно, под палящими лучами солнца. Сначала Ада не поняла: люди как люди, и лица такие же, встретишь в толпе — не отличишь от здорового. Или здоровые стали, как больные? Через несколько десятков шагов, остановясь, прислонилась к стене здания: такая покинутость в одном, втором, третьем лице, что ей стало плохо. Она бы не смотрела, но она искала взглядом мать и боялась пропустить, не узнать. Оправилась, пошла дальше и уже попривыкла, и уже было неловко за свою слабость. Мать не гуляла. Она лежала в палате, где, помимо ее кровати, стояло еще с десяток, но все были пусты, кроме двух-трех. Врач, сопровождавший Аду, пояснил, что некоторых, кто в лучшем состоянии, отпускают не только на прогулку, но даже домой. Мать была в худшем. Она лежала с заведенными под верхние веки глазами, как будто дремала, но едва Ада позвала ее, опустила глаза вниз и сказала: я тебя ждала. Ада выложила апельсины, бананы, икру, стеклянную банку с куриным бульоном, каждый раз преувеличенно оживленно называя продукт, который принесла, в надежде на ответную реакцию матери. Та слушала равнодушно, все так же опустив глаза. Ада села рядом на стул, взяла руки матери в свои, стала их гладить, говоря: мама, это я, ты узнала меня, мама? У матери выкатилась мутная слезинка из уголка глаза, она сказала: Ада, я помню тебя, где ты была так долго, я беспокоилась, твоя подружка звонила, что уже все сдали экзамены, а тебя все нет. Мать путала времена и говорила с Адой как со школьницей. Потом спросила, почему не приходит папа. Ада не знала, что сказать в ответ. Врач ушел, и спросить, как себя вести, не у кого. Она сказала: папа придет, как только освободится, он обещал. Мать вдруг запела. Голос у нее был тоненький и дребезжащий, совсем не тот полный, грудной, который Ада помнила с детства. Она пела романс “На заре ты ее не буди”, плохо выпевая слова, но не фальшивя в звуке, только растягивая его иногда так, что ломался ритм, и в этом сломленном ритме было что-то особенно жалкое и одновременно завораживающее. Когда мать начала, Ада сжала материнские пальцы, желая остановить ее, стесняясь других женщин, лежавших в палате. Мать прервалась, подождала короткое время, не повторится ли запретительный жест, он не повторился, она продолжала, и Ада уже не прерывала ее, а, наоборот, слушала и вслушивалась в каждую ноту как в откровение. Когда мать закончила, Ада почувствовала, что у нее мокрое лицо. Врач сказал, что она хорошая, терпеливая, смирная, лишь иногда поет, но к этому привыкли и никто не обижается и ее не обижает. Она не поправится, спросила Ада. Кто ж это может знать, кроме Господа Бога, сказал философски врач и добавил: вероятность очень мала. Спасибо вам, что вы держите ее и так добры к ней, сказала Ада. Это наша обязанность, ответил врач, маленький полный мужчина, внимательными глазами ощупывая Аду. Ада приходила еще и опять приносила курицу, и апельсины, и яблоки, с наваливающимся облегчением (или опустошением) чувствуя, что она не главная тут, а второстепенная, ибо переложила ответственность с себя на врача. Когда-то Занегин говорил, что она хотела бы поднять вес в триста килограмм, будучи в силах поднять всего лишь десять. Ты пойми, убеждал он ее, что ты можешь только десять, и успокойся на этом. А кто ж займется остальным, спрашивала она его, точно зная, что имеет в виду. Остальные и займутся, отвечал он, и кажется, в этот момент они не понимали друг друга. Выходило, что она вынужденно приняла правоту Занегина, когда и на десять килограмм сил не осталось. Неверно перераспределяла? Была слишком заносчива? Или, наоборот, повесила на других то, что должна была до конца нести сама, и так растренировалась? Но уж и на рефлексию охота пропала. Самое страшное, что она и Занегина больше не любила. Эпизоды взаимных отталкиваний нанизались как на веревку, и веревка задушила живое чувство. Разочарование в человеке повлекло за собой разочарование в художнике. Явись он сейчас перед ней, позови ее снова — ей нечем было бы ему ответить. Так ей казалось. Или так она себя уговорила. Мы знаем только это состояние, которое переживаем в эту минуту. И не знаем никакого иного. Мы не знаем и не помним, что способны изменяться до самозабвения. Хватило бы только времени.
Это просто такой период, он пройдет, ты молодая женщина, тебе жить да жить, говорил Фальстаф Ильич, как ни странно, совершенно точные вещи. С кем, спрашивала она, не пропуская крючка, на который могла накинуть такую же точную петельку. Ты знаешь, говорил он, опуская глаза и напоминая ей в эти минуты сумасшедшую мать.
Она знала. Фальстаф Ильич и в самом деле стал для нее мужем, любовником, другом, верным псом — всем, чем она не желала, чтобы он был. Она не презирала себя, нет, за то, что была с ним. Скука, в которую погружалась, лишала ее и этого свойства. Он же, счастливый тем, что возле нее кроме него, никого нет, крутил усы, убежденно настаивая: это пройдет, ты откроешь глаза и увидишь, что стыдно быть несчастной, когда есть человек, который так тебя любит, ни у кого нет, а у тебя есть. Ему дали, наконец, постоянное место в прославленном оркестре, и еще от этого в нем появилась та мужская уверенность, которая когда-то привлекла к нему Марию Павловну. По аналогии он надеялся, что и Аду привлечет рано или поздно. Она давала ему такую надежду в те редкие минуты, когда он мог почувствовать себя любовником и мужем. После Италии это случилось всего два раза. Один раз — когда Ада вернулась из больницы от матери и, не в силах вынести одиночества, сама пришла к нему, и второй — когда они отправились к нему домой по окончании концерта в зале Чайковского, где он, полноправный музыкант, играл Чайковского на своей валторне. Он устроил специальный ужин и Ада наблюдала за ним со смешанным чувством отвращения, того же облегчения и благодарности. Как будто и в этом случае ее невесть откуда взявшаяся ответственность ослабевала, переложенная на плечи коллектива, в который человек вступил. Он был весел, нов, энергичен, даже рассказывал смешные анекдоты, и Ада уговорила себя пожить его праздником, не портя человеку настроение. Она ночевала у него больше этих двух раз, но всегда ссылалась на усталость, простуду, еще на что-то, он стелил ей в спальне, а себе на диване, как в тот самый первый раз, когда подобрал ее в переходе, стелил аккуратно и заботливо, не сомневаясь, что время возьмет свое. Да оно и брало: какой огромный путь пройден навстречу друг другу — от этого призрачного перехода к призрачной Италии, к призрачной близости, но ведь они были, были. И будут. Не может такого быть, чтоб цепь событий вела от лучшего к худшему. Фальстаф Ильич, стихийный оптимист, верил в лучшее, как большинство людей, воспитанных советской властью, советовавшей своим питомцам бодрость, а не уныние. Почти как Библия.
В самом конце сентября Ада случайно оказалась около дома, в котором находился подвал, где она встретила Занегина, когда тот вернулся из своего ознакомительного путешествия с родиной. Аду окликнул художник, вышедший из подъезда. Разговорились. Художник удивился, что Ада не слышала о судьбе “Автопортрета” Занегина, о чем все наслышаны, и рассказал, как он был продан в Италии за пятьдесят тысяч долларов. Когда, рассеянно спросила Ада. Ну, как же, этим летом, на биеннале в Венеции, последовал ответ. А что удивительного, спросила Ада. Ничего, кроме того, что они там с жиру денежки за фу-фу отстегивают, художник-то фуфло на палочке, ничего серьезного из него не вышло, сообщил собрат по искусству, возможно, предполагая, что таким образом смягчит горечь несчастной женщины, о чем, опять-таки, собратья были наслышаны. Неужели Занегин не дал тебе из этих тысяч отступного, подлил он при этом масла в огонь. Ада развернулась и, не успев сообразить, влепила собрату тяжелую пощечину. Тот, отлетев на метр и также не успев сообразить, развернулся и влепил Аде ответную такую же. Он был сильнее. Ада упала, и прямо в лужу. Сентябрьские дожди сделали так, что луж было больше, чем сухих мест. У нее была разбита губа и выбит передний зуб. Собрат, злой, как собака, рванул дверь подъезда и исчез с места события, даже не подумав ей помочь. Место было безлюдное, прохожие не шли. Ада, сбитая с ног, села на асфальт и вновь подумала о том, что так и не сумела сойтись с жизнью, которой, собственно, не знала, идеализируя ее. Отношения с Занегиным, сами по себе совершенно не идеальные, настолько заслонили от нее остальное, что оно, остальное, как бы и не трогало ее. Люди не трогали. Они жили своими тяжкими заботами, грубыми отношениями, которые были предопределены обстоятельствами, воевали, бежали от войны, лишались дома, нищали — она любила, и все происходило внутри нее, а то, что вне — не касалось, обтекало ее. Любовь была защитой. Так рак отменяет простуды или желудочные недомогания как несущественные по отношению к основному заболеванию. Она признавалась себе, что и смерть отца и болезнь матери были ближе к первым, нежели к последнему. Возможно, она была (или ощущала себя) безнаказанной во внешнем мире, поскольку существовало одно-единственное, но зато такое тяжкое внутреннее наказание: нелюбовь Занегина. И произвела свой горделивый удар отмщения, основываясь на прежней привычке к безнаказанности. Защита обрушилась. Жестокий реальный мир, в лице цивилизованного, в общем, гражданина, относившегося к Аде совсем неплохо, ответив ударом на удар, приблизился: между ним и ею больше не было зазора. Она поднялась, выплюнула сгусток крови, выпустила совершенно неуместную в этих обстоятельствах серебряную трель смеха и пошла домой.