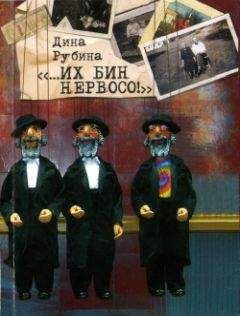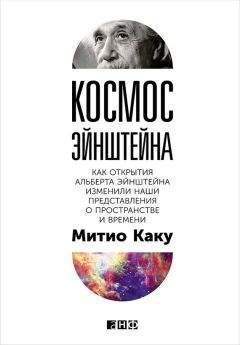Дина Рубина - «…Их бин нервосо!» (сборник)
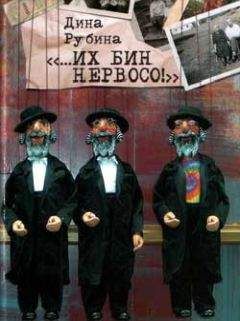
Помощь проекту
«…Их бин нервосо!» (сборник) читать книгу онлайн
После окончания первого курса консерватории мы с моей подругой поехали на каникулы в Ленинград, что само по себе явилось для нас довольно крепким культурным нокаутом. Однажды утром мы оказались на Центральном телеграфе, откуда обычно звонили домой. Уже собираясь уходить, обратили внимание на двух молодых людей, растерянно стоящих перед стендом с марками.
Это были семидесятые годы, когда по улицам Ленинграда расхаживали в затертых джинсах прозападно настроенные девушки со странно выстриженными затылками и чубами, и юноши с невиданными (у нас в Ташкенте) хвостами на головах и серьгами в ушах.
И вдруг тут, на Центральном телеграфе, явно разговаривая по-французски, стоят двое молодых людей, по виду очень похожих на ташкентских мальчиков из интеллигентных еврейских семей. Один был брюнетом, другой – веснушчато-рыжим, в скромных клетчатых ковбойках и темных брюках. Моя подруга учила французский и могла связать на нем несколько предложений. Мы подошли, она предложила помочь, мальчики ужасно обрадовались, и с полчаса мы довольно мило объяснялись по поводу коллекции советских марок (один из них, кажется, марки собирал). Наконец, французы расплатились, мы вышли из здания Центрального телеграфа и еще минут двадцать вместе шли по Невскому, пока не расстались. Я-то учила немецкий, и брюнет немного по-немецки говорил.
Так вот, за несколько минут мы выяснили уйму вещей, не стану перечислять – каких, это скучно. Только одно:
узнав, что мы – студентки консерватории, рыженький объявил, что ужасно любит Гершвина. Мы взвыли, потому, что именно месяца за два до того в Ташкент приезжала какая-то иностранная оперная труппа, привозила «Порги и Бесс». И вот, не сговариваясь, одновременно с французами мы напели «Колыбельную» – довольно чисто, к обоюдному восторгу.
– Откуда вы так хорошо знаете языки? – спросил один из них.
– Мы изучаем их в консерватории, – гордо ответила моя подруга, и тогда брюнет хлопнул рыжего по плечу и воскликнул: «Смотри-ка, Поль, у нас в консерватории учат игре на разных инструментах, а у них – иностранным языкам!»
Но я не об этом. Тогда меня просто потрясла синхронность нашего музыкального выбора, наших предпочтений и общего вкуса. Этот случай довольно долго влиял на мои убеждения, даже в зрелом возрасте, сообщая им заметный либерально-космополитический уклон.
Кстати, похожий случай со мной произошел недавно, в Германии, в Гамбурге. Мы с моим менеджером опаздывали на выступление и вынуждены были поймать такси. Водитель, пожилой сумрачный немец, молча вел машину, казалось, не слушая, как моя спутница пытается по ходу из окна машины демонстрировать мне красоты Гамбурга.
– А это – памятник Генриху Гейне, – слева действительно что-то промелькнуло.
Водитель, не поворачивая головы, сказал:
– ХайнрихьХайне.
И тогда я, без особой задней мысли (перед выступлениями у меня вообще никаких мыслей не бывает), довольно элегично пробормотала то, что единственно помнила из школьной программы: «Ихь вайс нихьт, вас золь эс бедойтн, дас ихь зо траурихь бин…»
И вдруг водитель оживился, подхватил строчку, и мы дружно дочитали до конца Гейневскую «Лорелею»… Потом он сообщил, что за баранку такси сел недавно, с тех пор, как вышел на пенсию, а вообще-то он – оперный певец, правда, на небольших ролях, но пел и Ленского в «Евгении Онегине». На что я, обуреваемая родственными чувствами, сказала, что закончила консерваторию, и мы со стариком дружно спели арию Ленского, он по-немецки, я по-русски, – к потрясению менеджера (возможно, она даже задумалась – нельзя ли использовать меня на подмостках сцены еще и в таком качестве)…
Словом, вышло все очень трогательно. Но тогда мне уже было отнюдь не девятнадцать лет, и я вполне отдавала себе отчет в том, что любовь к музыке и сходные моменты биографий, конечно, роднят нас с этим пожилым немцем в чем-то уютно-малом, но не исключают наличия бесконечных жизненных плоскостей, в которых мы отдалены друг от друга на чудовищные расстояния…
Почему? Да потому, что на жизнь каждого человека, будь он хоть трижды раскосмополит, все же оказывает влияние такая штука: национальная самоидентификация.
От себя убежать трудно.
Один мой знакомый в застойных семидесятых работал на Таймыре одновременно в двух строительных конторах: русской и еврейской. И в той и в другой шарашили диссиденты, скрывавшиеся в глуши от властей. В первой шарашке – политические, во второй – сионисты.
– Знаешь, в каком пункте проявляется разность ментальностей? – рассказывал он. – В выпивке. Когда гуляли в русской шарашке, выпивка шла по следующему сценарию: первая стадия – ругали правительство. Вторая стадия – выясняли: кто кого уважает. Третья стадия – говорили о Боге.
В еврейской шарашке сценарий был такой: первая стадия – ругали правительство. Вторая стадия – спорили, чья мама лучше готовит. Третья стадия – говорили о болезнях.
Казалось бы – все вроде ясно: чем шире у человека воззрения, чем тоньше его культурные предпочтения, чем выше образование… Э-э, не все так просто! Во всяком, случае, не у евреев.
На моих выступлениях мне часто задают один и тот же вопрос: кем я себя ощущаю: русским писателем? еврейским писателем, пишущим на русском языке? или израильским русскоязычным писателем? И еще ни разу я не ответила на этот вопрос внятно, просто потому, что не знаю ответа.
В таких случаях я почему-то сразу вспоминаю, как в восьмидесятых годах по Коктебелю ходила одна полусумасшедшая армянская старуха и всем показывала список великих армян. Он начинался так: Шекспир, Достоевский, Наполеон…
Я живу в молодом, очень пестром и очень нервном обществе, члены которого беспрерывно выясняют отношения по самым разнообразным направлениям: политическому, экономическому, социальному, возрастному, религиозному, межполовому, и, конечно же, этническому.
К этому привыкли все настолько, что, кажется, никто ничему не удивляется. Кроме того, историки и социологи, этнографы и философы – все светское население Израиля мучается глобальным и неразрешимым вопросом – что такое «еврей»?
Повторяю: светская часть населения. Потому, что для религиозной части населения этого вопроса не существует. Он решен со времен нашего праотца Авраама: если ты исполняешь все заповеди иудаизма, ты – еврей. Точка.
Приятель одной моей знакомой репатриировался в Израиль из Америки недавно. В знак протеста. Его родители, стопроцентные евреи из Чикаго, не так давно крестились и стали прихожанами протестанской церкви. Мальчик взбунтовался (эти непослушные мальчики из еврейских семей так разнообразно непослушны, что заслуживают отдельного разговора) и приехал в Израиль, где поступил учиться в одну из иерусалимских ешив.
На днях, купаясь в общественном душе, он случайно сломал замок на двери и оказался запертым в кабинке. К счастью, под потолком кабинки оказалось маленькое оконце, выходящее в общий коридор, в которое он с превеликим трудом выбрался. Выбрался и идет к себе в комнату, само собой, раздетый, лишь препоясав полотенцем, так сказать, чресла, если мы уж коснулись библейских аллюзий. Навстречу ему идет главный раввин ешивы, который особенно опекает этого парня.
Он останавливается, оглядывает своего голого подопечного с ног до головы и, наконец, строго спрашивает: «Хаим, где твоя кипа?!»
Потому что религиозный еврей при определенных обстоятельствах может, конечно, оказаться голым, но – с непокрытой головой?! – никогда!
Так вот, о проблеме национальной идентификации. На Западе проще, там человека идентифицируют по одному из трех факторов: страна, из которой ты происходишь. Или – родной язык. Или – вероисповедание.
В этом смысле мне кажется очень показательным случай, произошедший с моей сестрой.
Моя сестра Вера – скрипачка Новозеландского симфонического оркестра. Живет она в Веллингтоне. Переехала туда из Израиля года три назад и очень стеснялась своего английского, боялась, что выгонят из оркестра, где поначалу сидела на птичьих правах.
Дирижировать их оркестром часто приезжал дирижер из соседнего города Крайчича – человек пожилой, нервный, с тяжелым желчным характером. Самой яркой его отличительной чертой была выраженная женофобия. Ненавидел женщин. То есть, он терпел их в женском, так сказать качестве, на профессиональной же почве – не воспринимал. И всегда придирался, особенно к новеньким. Как взгляд упрется в новое женское лицо, он останавливает репетицию, нацеливает дирижерскую палочку и, презрительно щурясь, задает всегда один и тот же вопрос: «Where are you from?» И новенькая должна отчитаться, представиться, как это полагается.
И вот, на первой же репетиции старик увидел мою сестру, нацелил на нее дирижерскую палочку и каркнул свое: «Where are you from?».
Трепеща и боясь потерять едва наметившуюся работу, она послушно ответила:
– Я родилась в Узбекистане.