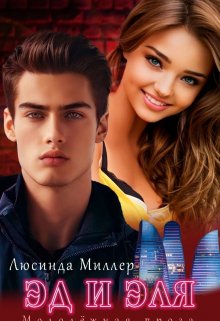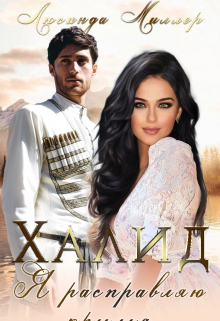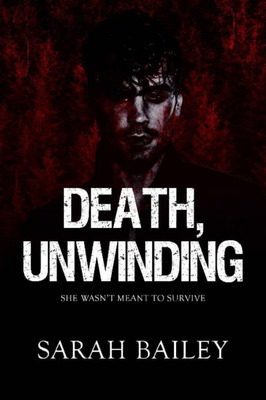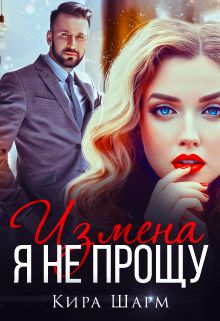Михаил Черкасский - Сегодня и завтра, и в день моей смерти

Помощь проекту
Сегодня и завтра, и в день моей смерти читать книгу онлайн
Как… забираете? Куда? Домой?
Позже скажет, что голос решительный был. Да, единственное, что не мучит, что могу вспоминать без боли, единственное, что сделали для тебя, моя доченька — только это. И представить себе не могу, если б струсил, не внял той мольбе.
Теперь — матери. И опять я услышал: нельзя. Но тут проще: "Ладно, все. Приезжай часов в пять, в шесть. Ничего не надо, сам куплю". Снова возвращался в нашу семью хозяйственный смысл. Надо было убрать квартиру, надо было купить съестного. Но только для нас с мамой. Надо было собрать вещи. Твои и мамины. Да, твои. То, о чем и мечтать не мечтали.
— Саша, ты меня слышишь?.. — далекий голос Тамары. — Ну, вот, я сказала. Дадут. Но только часов в шесть.
Рано!..
Тогда позвони ей сам. Вот что, запиши, что нам надо.
Нет, он не был длинен, этот списочек. Ни табуреток, ни ванны, ни тазов в нем, ни кукол. Коротенький, как твоя жизнь. Но безмерно длиннее уже остававшегося. Закрутилось. Так, что спицы слились в металлический диск: плюнь — отскочит. Одного лишь хотел я во всем этом — чтоб никто, никто, кроме нас с мамой, не видел тебя. Когда повезем Если б мог — на руках бы снес.
Это было 21 сентября. В дневнике нашем я нашел запись. Карандашную, наспех: "21 сент. 64. Пожелание, сидючи на горшке: "Папа, сойди с ума". И всего лишь четыре года, день в день, мне понадобилось, чтобы выполнить твою просьбу. Да и то не совсем. Совсем не выполнить. Никогда еще не было в том котелке так прозрачно, как в тот сонный осенний день.
Теперь звонить этой. Изложил просьбу. Просьбы тоже — замечено — подчиняются основному закону сопромата: на сие действие получил равное противодействие:
— Я говорила вашей жене: нельзя этого делать, но она настаивает. Поймите: это же безрассудно. Мы ведь вас не примем назад. А все может быть. Поговорите с вашей женой.
Мы говорили. Мы понимаем. Думаю, вы не станете возражать? — обнаглел.
Я не стану, потому что в конце концов это ваше право…
Ну, вот напросился на удар в поддыхало: наше право — забрать полумертвую, наше право убить, наше право обречь тебя на боль — без укола, без помощи. Наше право… "Но я бы лично не стала этого делать. Хорошо, документы мы вам приготовим". И на этом права наши кончились и — как в старые добрые времена, — начал канючить. Чтоб машину дали попозже. И пошел у нас новгородский торг.
— Я не понимаю, для чего это вам все надо? — Мы не хотим, чтобы видели… во дворе. — Гм1 странный вы человек, все равно вы от этого не уйдете. У нас ведь тоже работа, люди. Я не могу держать сестру до ночи.
— Какую сестру? Дежурную? Суточную? — Ну, знаете ли, это уж наше дело и вам незачем вмешиваться!.. На девять устроит? — Да, спасибо. — У вас все? — положила трубку.
Как все? А — проклясть? Как хотела Тамара? Да уж просто сказать? Телевизору можно, но человеку, если он не товарищ, но лицо официальное — невозможно трудно в лицо.
Заходясь, заливались звонки. И как в светлые дни, ползал по полу с тряпкой, посудой вызванивал. И какие-то тоненькие колесики, в зубчиках, золоченые, древние, ровно-ровно отсчитывали: "В последний путь… в последний путь… нет, еще не в последний, по-живому в последний…" Позвонили в дверь. Мать, и за нею в церковном свете лестничной "клетки" безмятежно светилась голая черепушка неродного нашего деда. Целых семьдесят лет время, почти что не подпуская женщин, вылизывало ее замшевым языком, и стала она до того нежная, что нигде, ни в одном месте даже у самой королевской или рокфеллерной женщины нет шевро такой выделки. Но то ли еще будет: дядя Яша дал миру обет: "Человек должен жить девяносто лет. Гм, а что ты смеешься? Так надо. А как иначе?" — "Кому надо?" — "Ну!.. — качнул выделкой. — Надо. А что, разве это не так?" — "Тольки так!"
Не тогда, а позднее мы говорили. И вот уже восемьдесят. И дай бог все сто! Но чем были все эти 25000 дней? А тем: отправлением естественных потребностей — ел, пил (чай, молоко, компот), спал, просто спал. Но даже теперь я не отдал бы ни единого своего дня за этот утысячеренный четвертак. Покопаешься, чтоб худое отковырять в нем. А хорошее на виду. И такое, что иное худое не хуже такого хорошего. Не любил, не страдал, не рвался, не лез, не срывался — полз. Где другие звенели копытом, ржали, запаленно, подстреленно бились — он улиткой степенной, разумной протек. И другие сгорели, а он — вот он, тут. "Существователь", — однажды добродушно усмехнулась Тамара. "17 мая 62 г. Когда второго мая ехали к бабушке, я приучал Лерку к деду. Говорил, что г а в а в а у него лысая, голая. — Яся, Яся, — усваивала новое имя. И вот в воскресенье, позавчера, идем с ней по мосту и вдруг слышу: — Яся… — Где? — Вон она… — на велосипеде ехал лысый
дядька".
Молча прошли. Осуждающе. Что ж, не смогла ты, мама, научить меня жить, так сегодня уж не научишь. Порошку зубного навел. Из того, что тебе уже никогда не дочистить. Тряпку взял, начал замазывать стекла: зеркало, балконные двери (если мама туда поднесет подышать). И текла по стеклу с мокрой тряпки беловатая кашица. Со слезами непролитыми, с проталинами "раздумий" — если в доме покойник, зеркала завешивают. "Зачем ты это делаешь? — возмущенно крякнула мать. — Как хочешь, но люди…" — "Так не делают, да?" — "Да!.." — корундово уставилась на меня. "Люди!.. почему же они не делают? Разве это так скучно? Кто же это все делает, кто?!" — "Это суждено". — "Ах, суждено!.. Кем, кому? Ну, все. Молчи. Я пошел".
Моросило. Лужи вздрагивали. Вот он день запланированного проклятия. Что же скажем им? Я сказал уже в трубку: спасибо. И Тамара не сможет. Не дано нам, людям. Вошел. Поманила пальцем: "Папочка, скажи Лерочке, что мы ее берем домой". Взяла мою руку:
П…Р…А…
— Правда, правда, доченька!
В семь часов я дрожал, что прикатят. А там, во дворе и на лестнице — всюду. С работы, из детских садов. В восемь просто боялся. В восемь тридцать почти перестал. "Уснула. Ну, неси вещи. Давай побыстрей, они ведь могут в любую минуту". Уложились. Украли десяток пеленок. Показались вдали золотисто-паучьи глаза: наша. "Постойте, — сказала сестра. — Я дежурному врачу позвоню. Он должен осмотреть". А в сенях грохотали, проталкивая чрез двери носилки, фельдшер да санитар, усталые, навидавшиеся всего на своем долгом медбратском веку. В боксе мама, оглядываясь на двери, осторожно будила тебя: "Лерочка… доченька, мы домой едем, домой… Ну, никак не проснуться?" — засмеялась нежно.
Но молчала ты. Ни радости, ни удивления. Только стылая мука. От того, что вернули оттуда, где единственно и была для тебя жизнь. Врач вошел. И за ним мотопехота.
В вестибюле утоптал чемодан, и, когда подошел к боксу, уж носилки разлеглись на полу, и мама надевала на тебя кофточку. Обвились ручонки вокруг шеи. Положила. Укутала. Отпечаталось, как застыли на миг все. Надолбами. А ты… на земле. Насмотрелись на всякое скоропомощники, но лицо твое и на их навидавшихся отразилось: бережно взяли, тронулись. "Осторожно, Вася… двери, двери там подержите!.." Пять шагов по вольному воздуху. Под вечерним ослепшим небом. Тронулись. Эх, худая телега попалась, трясучая, и возница неопытная — на асфальте и то подбирала все кочки.
— Молодая она у нас, я скажу, — санитар потянулся к глазку: — Нинка, черт, аккуратнее! Что ты… не дрова везешь.
Ветер, дождь, тьма — хорошо! Въехали, встали. "Я возьму… — протянул к тебе руки и — Тамаре: — Ты лифт. Спасибо вам, спасибо!.." — кивал санитарам, которые, молча понурясь, не торопились уехать, глядели на нас. В лифте так развернулся, чтоб была ты спиной к зеркалу. Мать без слов озабоченно распахнула дверь. Вот и дома мы, Лерочка, дома. И, ополоснув руки (все же!) кинулась мама укладывать, раздевать. А моя — прощаться. Первый раз после лета увидала тебя. Но — характер — ничего на ее лице от твоего не отразилось.
И пошла наша первая домашняя ночь. И, должно быть, поэтому тоже спал. Вприсядку, урывками. Караулил. И осталось мне болью укорной такое: среди ночи, откинув с груди одеяло, рвешь с себя ослабевшими пальцами тугую пижаму. Душно — ведь телом дышала больше, чем… Распахнул балконную дверь — полилось, полегчало. И уже не ложился. Утром подозвала меня, начала водить на ладони:
П-о-ч-е-м-у з-е-р-к…
— Зеркало, доченька? Замазано? Протекло с потолка, а я не успел вымыть.
Подняла к нему глазик. Ничего не сказала: чист он был — простыня простыней. А Тамара ходила по квартире и накалялась: "Грязь!.. Неужели нельзя было убрать?" — "Я убирал". — "А это?.. А это?.. " — остервенело мыла, терла,
скребла. Горько стало, обидно, но молчал, понимая: так всегда у нее прорывалось отчаяние — ухватиться с ненавистью за что-то хозяйственное. Вот на днях рассказала: "Ты и не знаешь, сколько я там головой билась". Ну, так это, если не видит никто. И, когда поутихло немножко, подошла, ткнулась в плечо, заплакала:
— Прости меня, папочка… Иду-у, доченька!.. — на стук в стену, отделявшую кухню от вашей спаленки. Теперь только так говорим. — Саша, Лерочка хочет в большую комнату. — Взглянула: можно ли? Что ж, зеркал там нет, стекла книжных шкафчиков в стороне. — Ну, вот здесь доченьке будет хорошо. Окно откроем. Что? Напиши. Шкафчик? Да, шкафчик твой.