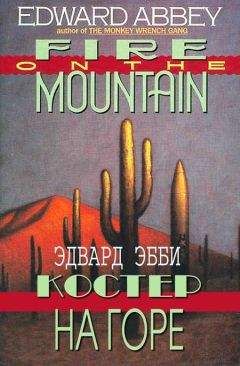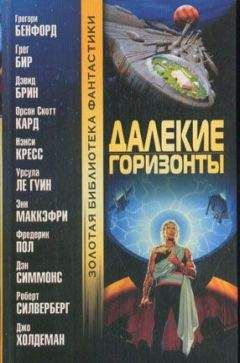Виктор Ерофеев - Лабиринт Два: Остается одно: Произвол

Помощь проекту
Лабиринт Два: Остается одно: Произвол читать книгу онлайн
«За всю деятельность и во всем лице ни одной благородной черты».[46]
Розанов настаивал на связи метафизической загадки Гоголя с половой сферой. Розанов, как известно, много писал о поле. Параллельно Фрейду он развивал теорию зависимости духовной жизни человека от своеобразия его половой структуры (см., в частности, его книгу «Люди лунного света»). Теория Розанова не воплотилась в какую-либо последовательную систему, ибо последовательная система и Розанов суть вещи несовместимые, однако его идеи были вполне ясны.
«Интересна половая загадка Гоголя… — пишет Розанов во втором «коробе» «Опавших листьев» (1915). — Он бесспорно «не знал женщины». Что же было? Поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках… Везде покойник у него живет удвоенной жизнью, покойник — нигде не «мертв», тогда как живые люди удивительно мертвы… Ведь ни одного мужского покойника он не описал, точно мужчины не умирают».[47]
Но они, конечно, умирают, а только Гоголь нисколько ими не интересовался. Он вывел целый пансион покойниц, и не старух, а все «молоденьких и хорошеньких».[48]
Возможно, что розановская гипотеза о предрасположенности Гоголя к некрофилии ужаснет читателя, покажется ему возмутительной, но мне думается, что она прежде всего наивна. Сам Розанов не раз писал о смерти. И каждое его слово о смерти — вопль:
«Смерти я боюсь, смерти я не хочу, смерти я ужасаюсь»,
или:
«Я кончен. Зачем же я жил?!!!»,
или (любимое Мандельштамом):
«Какой это ужас, что человек (вечный филолог) нашел слово для этого — «смерть». Разве это возможно как-нибудь назвать? Разве оно имеет имя? Имя — уже определение, уже «что-то знаем». Но ведь мы же об этом ничего не знаем. И, произнося в разговорах «смерть», мы как будто танцуем в бланманже для ужина или спрашиваем: «сколько часов в миске супа»».[49]
Но разговор о некрофилии Гоголя, в сущности, значит то, что Розанов не захотел заметить схожего, трагического, отношения Гоголя к смерти, не понял того, что яркость гоголевской кисти «везде, где он говорите покойниках», имеет своей причиной не физиологический порок, а жгучий интерес писателя к самой неразрешимой проблеме — смерти и страха перед ней (он выразился, в частности, в «Завещании»). Перед этим страхом, перед загадкой смерти, перед вопросом о смысле существования и литературы на грани небытия розановский домысел неудовлетворителен. Тема «Гоголь и женщины» — достаточно нестандартная тема (здесь осталось много загадок), но другая тема — «Гоголь и смерть» — ею явно не объясняется. Некрофилия пугает своим психофизиологическим вывертом, но остается в ряду сексуальной патологии. Смерть выпадает из всякого ряда, и в этом смысле она приобретает значение абсолютной патологии. Гоголь входил в заповедный мир смерти не как извращенец, слепой к смерти, по сути дела, подменяющий смерть похотью, а как платоновский «безумец», ищущий возможность через смерть объяснить, понять и принять жизнь.
2. Гоголь и революцияНикто не мог быть более решительным критиком розановского отношения или, я бы даже сказал, поведения по отношению к Гоголю, нежели сам Розанов, который совсем с иной точки зрения взглянул на творчество Гоголя после революционных событий 1917 года.
После революции мысль Розанова расслоилась. С одной стороны, он объявил русскую литературу виновницей революции и тем самым оказался в роли пророка, пророчество которого осуществилось. Не он ли все время предупреждал, предостерегал?
«Собственно, никакого сомнения, — писал Розанов в своей последней работе «Апокалипсис нашего времени» (1918), — что Россию убила литература».[50]
Он развивает свою идею в статье «Таинственные соотношения»:
«После того, как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова («Обломов»), администрация у Щедрина («Господа ташкентцы»), история («История одного города»), купцы у Островского, духовенство у Лескова («Мелочи архиерейской жизни») и, наконец, вот самая семья у Тургенева («Отцы и дети» Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи», — пишет Розанов в той же статье. — В.Е.), русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция. «Что же мне делать, что же мне наконец делать?». «Все — в дребезги!!!»».[51]
Но одновременно с этим совершенно другая тенденция вырвалась из-под розановского пера. Он — свидетель революции — обнаружил, что народ, выступивший в революции активной силой и показавший истинное свое лицо, вовсе не соответствует тому сказочному, смиренному, богобоязненному народу, который идеализировался Розановым в его четырех пунктах (см. выше). Славянофильское представление о народе оказалось мифом.[52] Народ оказался не тот. Не той оказалась и государственность. С мукой переживая распад «былой Руси», Розанов тем не менее вынужден констатировать:
«Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. Даже «Новое время» нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей».[53]
Для Розанова наступила пора «переоценки ценностей». После революции он убедился во внутренней гнилости самодержавной России, которой управляли «плоские бараны», и пришел к выводу, что Россия была в конечном счете именно такой, какой ее изображала русская литература: обреченной империей.
Розанов так и не снял противоречия, существующего в его предсмертных мыслях, в которых Гоголь по-прежнему занимает важное место. Ведь Гоголь остается одним из «разложителей» России, однако при этом он прав: «Прав этот бес Гоголь».[54] Смена вех тем не менее поразительна: Розанов отказывается от славянофильства и выбирает между И.Киреевским и Чаадаевым — Чаадаева.
«Явно, Чаадаев прав с его отрицанием России», — утверждает Розанов, и одновременно происходит его примирение с Щедриным: «Целую жизнь я отрицал тебя в каком-то ужасе, но ты предстал мне теперь в своей полной истине. Щедрин, беру тебя и благословляю».[55]
Но особенный интерес представляет его переоценка Гоголя. Подчеркивая, что в этой переоценке главную роль сыграла революция («Вообще — только революция, и — впервые революция оправдала Гоголя»), Розанов теперь выделяет Гоголя из русской литературы как писателя, первым сказавшего правду о России:
«…Все это были перепевы Запада, перепевы Греции и Рима, но особенно Греции, и у Пушкина, и у Жуковского, и вообще «у всех их». Баратынский, Дельвиг, «все они». Даже Тютчев. Гоголь же показал «Матушку Натуру» (курсив мой. — В.Е.). Вот она, какова — Русь; Гоголь и затем — Некрасов».[56]
Сознательно принижая Пушкина и видя в творчестве Гоголя не анаморфозу России, а «Матушку Натуру», Розанов выбирает Гоголя в качестве своего союзника. Дело не ограничивается взглядом на Россию. Розанов выставляет Гоголя как близкого себе критика христианства.
«…Он был вовсе не русским обличителем, а европейским, — пишет Розанов, — и даже, что он был до известной степени — обличителем христианским, т. е. самого христианства. И тогда его роль вытекает совершенно иная, нежели как я думал о нем всю мою жизнь: роль Петрарки и творца языческого ренессанса».[57]
В доказательство того, что Гоголь был «европейским обличителем», Розанов ссылается на гоголевский отрывок «Рим», где критика западноевропейской цивилизации XIX века, «лишившей мир Рафаэлей, Тицианов, Микельанджелов, низведшей к ремеслу искусство», предвосхищает «антиевропейские» идеи Достоевского и К.Леонтьева. Гоголь отказывает Европе не только в глубоких мыслях («везде намеки на мысли и нет самих мыслей»), но даже в умении одеваться («узенькие лоскуточки одеяний европейских»). Он язвит по поводу «уродливых, узких бородок, которые француз переделывает и стрижет себе по пяти раз в месяц». Но эта критика отнюдь не свидетельствует об антихристианских настроениях автора «Рима». Розанов настаивает на своей мысли, сопоставляя портрет прекрасной Аннунциаты, которую считает «албанкой», а потому нехристианкой, с портретами русских христиан: Чичикова, Коробочки и др. Гоголю приписывается буквально следующий вывод:
«Вот что принес на Землю Христос, каких Чичиковых, и Собакевичей, и Коробочек. Какое тупоумие и скудодушевность. Когда прежде была Аннунциата».[58]
Но гоголевская Аннунциата на самом деле не «албанка», а альбанка, то есть жительница римской окрестности. Что же касается героев «Мертвых душ», то связь их существования с исторической неудачей христианства (связь, которую Розанов навязывал сознанию или по крайней мере подсознанию Гоголя) не менее сомнительна, нежели связь Аннунциаты с Албанией. Разочарование Розанова в христианстве, достигшее своего апогея в революционные годы, толкнуло его на явный произвол в толковании Гоголя. Потеряв веру в прошлое величие России, не приемля Совдепии, Розанов полагался только на молитву: «После Гоголя и Щедрина — Розанов с его молитвою».[59] Но к кому обращалась эта молитва? Это так и осталось «загадкой» Розанова.