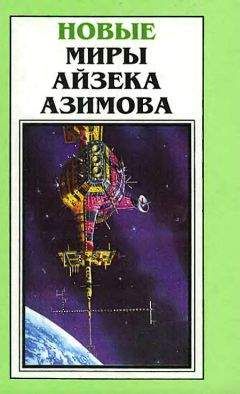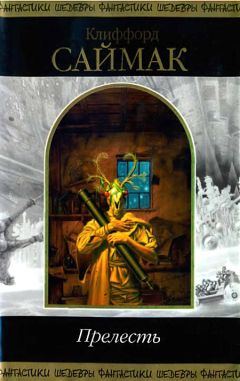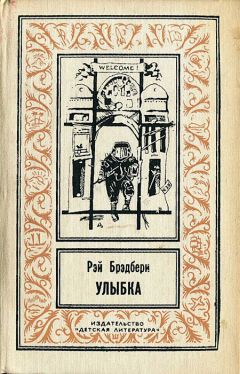Владимир Маканин - Андеграунд, или Герой нашего времени
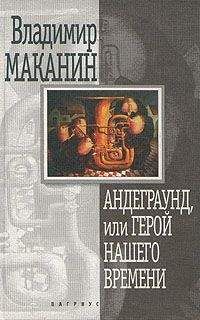
Помощь проекту
Андеграунд, или Герой нашего времени читать книгу онлайн
Я ей пересчитывал конопушки, отвлекал. Стуча по скату ее щеки подушечкой пальца, вел учет: две, три, четыре... — пока не оттолкнула, мои руки воняли ей дешевым куревом. В тот памятный раз я вырвал ее из рук среднеазиатских людей (как у смуглых детей; из их тонких, ничем не пахнущих рук). Ей было плохо. (Но ей и всегда было плохо.) Она задыхалась; рвалась на улицу или хотя бы в коридор. Я не пускал — она бы там стала реветь. Я подвел ее к окну, застонала. «Вот тебе воздух. Сколько хочешь! Дыши!..» — но Вероника не держала голову, совсем ослабела. Голова падала, по доске подоконника, по деревяшке — деревянный и звук удара. Я придержал ей голову, носом и ртом к небу, дыши. Обернул простыней. Как бы в парилке, завернутая, выставилась несчастным лицом в окно и дышала, дышала, дышала. Вдохи прерывались только, чтобы пробормотать не зови скорую, прошу... — не хотела, чтобы белые халаты слышали, как от нее разит.
Мука похмелья, физиологическое страдание выказать многого ей не дали: на лице едва пробивалась блеклая и краткая попытка нежности. Тем не менее место на подоконннике в крыле-К было тем особенным местом, где ее лицо впервые пыталось выразить мне неустоявшуюся еще любовь. (Фонарик в руках подростка: вспыхнет — погаснет, вспыхнет — погаснет.) Я забыл этаж, где происходило, колеблюсь, пятый ли, шестой или даже восьмой? — но уже независимо от этажей и от коридоров существует (в памяти) этот подоконник, а на нем, где ее лицо, небольшое деревянное пространство (с ладонь, с две ладони). Как бы экраном плохого прибора, ее лицом посылались в мою сторону невнятные промельки любви.
Я не был сильнее тех восточных людей из Средней Азии, приехавших в Москву торговать дынями (их четверо, я один), я не был крикливее, ни злее и не был, думаю, нравственнее их — не превосходил никак и отнял Вероничку, сумел ее отнять потому лишь, что был опытнее. Так сложилось. Я давно в этой общаге, а они только-только. Да и понять замысел четверых куда проще, чем угадать порыв одного. Именно что порыв! — самое примитивное движение души. Боль, болевой порог. Если рядом опустившаяся (к тому же обиженная, жалкая) женщина, хочется тотчас не только вмешаться, но и быть с ней. Тяга скорая, на инстинкте — и чувственная; можно было бы по старинке этот порыв назвать любовью. Я так и назвал. Я спокоен в обращении со словом. Почему ты не пишешь о любви? — спросила как-то Вероничка, наивная и, как все поэтессы, спрашивающая в упор, а я, помню, только пожал плечами — мол, люди не вполне знают, о чем они пишут.
И я, мол, тоже не вполне знаю, о чем пишу. (Вернее, о чем уже не пишу.) Я мог бы объяснить человеку стороннему. Прицел, мол, да и сама цель обнаруживаются далеко не сразу. Но как было объяснить Вероничке, уже трезвой, что любовь к ней, возможно, и не существует для меня как чувство, если не поддерживается теми самыми подоконниками. Тем нашим подоконником (на пятом или на восьмом этаже, я забыл), на котором в тот час она дышала частыми рваными вздохами, рыба, подпрыгивающая на береговой траве. И с которого (с подоконника) мы вместе с ней (она постанывала) убирали следы всего того, что выпил, но не вынес ее скромный интеллигентский желудок. Как на китах — на подоконниках. Не на трех, так на четырех. На обычных, деревянных и скоропортящихся от заоконнной сыри подоконниках (не вечных, я не обольщаюсь), — на них любовь и держится.
— Поэты так не думают, — отмежевалась Вероника.
Я согласился. Разумеется. Я сказал, что и вообще в этом смысле поэты меня восхищают.
— Чем? — она мне не верила.
Я пояснил — своей высотой духа, то есть своей всегдашней готовностью биться за постель.
— Фу!
Метропоезд стал притормаживать у «Тверской» — людей в вагоне негусто (все сидели, мы тоже).
Тут я вспомнил, припомнил ей, что проезжаем сейчас под стареньким зданием, особнячок, где литбоссы взяли Платонова сторожем и подметальщиком улицы. Не под — а рядом с Тверским бульваром, ответила Вероника, рядом с Пушкиным проезжаем (она всегда возражала мне Пушкиным) — с Пушкиным и с кавалергардами, с той, ах, ах, краткой ренессансной порой русской жизни, что все еще нам снится, как недостижимая.
Худенькая, она ежилась (в вагоне сквозило). А я про свое: я уточнил ей, что мы сейчас как раз под тем двориком, где он скреб своей андеграундной метлой. Шаркал и шаркал себе потихоньку, растил кучу мусора. Но (опять же!) и под той землей, сказала Вероника, которую топтали ноги Пушкина. Я засмеялся. К чертям споры. Москва — великий город, всем хватит. Величие здесь как раз и припрятано, пригрето тем уникальным состраданием, которое одновременно и убивает тебя, и умиротворяет, шарк, шарк метлой (жалей, жалей, жалей всех, только не себя!). Москва растворяет и тем самым перераспределяет нашу боль. Тут не с кем стреляться, всем понемногу нашей боли хватит. Пушкин уцелел бы, не помчись он в Петербург. В Москве он бы всерьез занялся (вымещение страдания) сооружением небольшого памятника няне. Хлопотал бы. Писал царю... Я дразнил ее. (Но не только болтливость под стук колес. Я уже чувствовал, что Вероника уходит.) Что касается любви, — продолжал я Веронике, — мне (извини) хочется любить заплаканных женщин. Но не писать же о них! Писать о любви — это всегда писать плохо. Скоропортящееся чувство. Платонов был особенно хорош тем, что всем им, уже одуревшим от неталантливого описания любви, он противопоставил иное — в частности, неписание о любви вообще. Неудивительно, что читавшие его взвыли от восторга. (Как только он умер.) Весь русско-советский мир пал ниц. Вот с какой силой (вот насколько) они почувствовали облегчение. Были благодарны. Их перекосившиеся, истоптанные бытом (плохо и натужно любящие) души нуждались в неупоминании о любви. В минуте молчания. В паузе.
— Перестань же!.. — она, поэт, тщилась вновь и вновь окоротить, а то и повернуть к Пушкину. К кавалергардам, чьи кудри и бачки изрядно подзабыты (засыпал снег)... А если бы он (Платонов) написал о людях вообще бесполых, о людях, размножающихся прикосновением рук — а ведь он мог бы под занавес и вдруг, в конце своей подметальной жизни! Конечно, не прямо и в лоб, а как-нибудь особо; с космизмом и одновременно (как топчущийся дворник) с русской робостью перед запретной темой. Если бы он хоть сколько-то написал о них (об однополых), не только русский, но и весь мир взвыл бы от восторга. Пали бы ниц. До сей поры его бы превозносили. Славили бы. (А как бы свежо истолковывали!) Но он предпочел неупоминание, асфальт на Тверской, брусчатка, каблуки проходящих мимо женщин, взгляд неподнимаемых отекших глаз и монашеская работа рук, шарк, шарк метлой....
Завернутую в простынь, я так и положил Веронику в постель; оставил в тиши, пусть заснет. Запер комнату. Стоял, выжидая — и вот, в полутьме коридора, мягко, кошачьими шагами ко мне подошел среднеазиатский хрупкий мужчина (один из тех, что попользовались втроем, четвертый мертвецки пил). Очень деликатно он спросил меня:
— Не знаете ли, в какой комнате проживает девушка, довольно милая, высокая, чуть с рыжинкой глаза?.. (Однако же наблюдательность! Портретист.)
— Не знаю, друг мой.
— Она, видите ли, просила нас. Меня лично просила: утром с ней встретиться. Необходимо предупредить ее о поезде... — деликатно лгал он, заглядывая мне в самые зрачки. Карие красивые глаза.
— И о поезде ничего не знаю, друг мой.
Мы смотрели с ним глаза в глаза, оба честно. Он еще сколько-то настаивал. Он, видно, сожалел, что, влив в нее спиртное, они спешили, попользовались в спешке (когда хорошо бы с ленцой и с негой. Жаль! А потом расслабились. Куда она пропала?) Конечно, московская блядь для них не в новинку. Все-таки жаль упустить. А то, что в ней, в женщине, возможно, плескалась еще и капля еврейской крови, доставляло им, восточникам, дополнительное удовольствие.
— Не знаю, друг мой...
Сделав наскоро по коридорам и этажам заметающий следы круг, я к Веронике вернулся. И очень кстати. Потому что пришлось опять подвести ее к окну, как раз к тому подоконнику, где она дышала (блеванув на пол последнюю малую горстку). Когда там, щекой на подоконник, она постанывала, набираясь кислорода и малых сил, я уже знал, что буду любить. Я угадывал надвигавшееся чувство. Сердце делалось тяжелым. (Нет, чтобы поплыть, подтаять, как в молодости. И, разумеется, мне захотелось любить. Речь не о постели, мы уже несколько раз спали до этого.) Я помогал ей умыться. Я поругивал, выговаривал, я укрывал простыней — ко мне пришли (вернулись) движения рук и слова. Предлюбовь, когда любовь уже в шаге. В такие дни мокрое, скользкое сердце (вот образ!) набухает, становится тяжелым, как от застойной воды. Сердце — как огромное ржавое болото со стрелками камыша, с осокой, с ряской и с бесконечной способностью вбирать, заглатывать в себя. В него (в болото) можно теперь бросать камни, плевать, сливать химию, наезжать трактором, загонять овец — все проглотит.