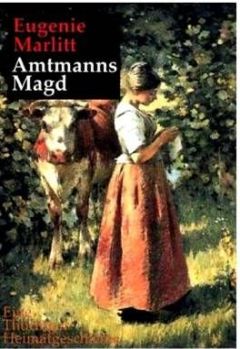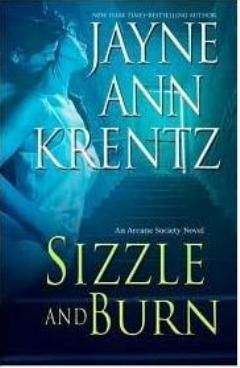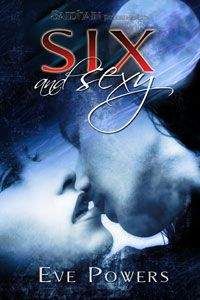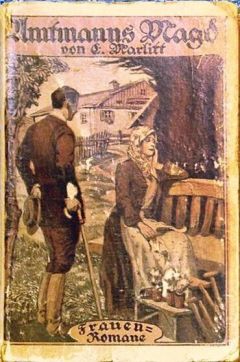Дмитрий Кедрин - Стихотворения и поэмы
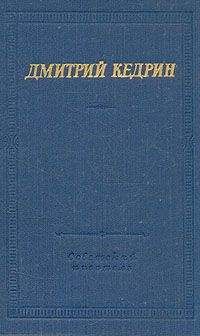
Помощь проекту
Стихотворения и поэмы читать книгу онлайн
Скорее всего дело случая, что в том же году после неудачных попыток обосноваться непосредственно в Москве Дмитрий Кедрин становится сотрудником многотиражки Мытищинского вагонного (ныне машиностроительного) завода, которому было поручено делать вагоны для первого в стране метрополитена. Но, возможно, сыграла свою роль и давняя учеба в техникуме путей сообщения. А заводская многотиражка, между прочим, выходила в свет под названием "Кузница".
В сентябре 1931 года в ней появилась статья о создании кружка рабочих авторов технической книги, подписанная двумя буквами "Д. К.". Так новый литсотрудник начал вникать в жизнь и проблемы большого подмосковного завода, положение которого в ту пору определялось малоприятным словом "прорыв" — был под угрозой годовой план. Страна, завершавшая первую пятилетку, недополучала от мытищинцев вагоны для электричек и трамваи. Заводские коммунисты начали бить тревогу еще в середине лета. Тогда-то "Кузница" из простой газеты "рабочих и служащих" стала "органом парткома и завкома". На помощь многотиражки крепко надеялись. И когда выяснилось, что за 9 месяцев на завод было принято 1366 человек, а уволилось 1204, "Кузница" поместила статью "Уничтожение текучести рабсилы — залог ликвидации прорыва". Одним из трех ее авторов был Дмитрий Кедрин. В статье обстоятельно говорилось о необеспеченности рабочих жильем и спецодеждой, о трудностях с питанием, об обезличке и частой переброске людей с участка на участок. Все это соответствовало истине, и тем не менее через несколько номеров в "Кузнице" появился разбор статьи о текучести кадров, в котором ее авторы обвинялись в хвостистских настроениях, поскольку они лишь отразили факты, а не мобилизовали вагоностроителей на ударную работу. Так молодой поэт прошел обработку политическими формулировками, а они тогда бывали и пострашнее.
В непосредственные обязанности литсотрудника Кедрина входили сбор материалов и подготовка к печати рабкоровских писем. Но вообще-то в редакции с ее штатом в два человека приходилось делать все. Тем более что нагрузка постепенно нарастала — если сначала газета выходила один раз в десять дней, то потом один раз в пятидневку и, наконец, с мая 1932 года- каждые три дня. Кедрин писал и отчеты с собраний, и очерки, и репортажи, и фельетоны, и обзоры стенгазет. А до стихов руки не доходили. Одно из немногих исключений — приветствие зарубежным рабочим, приехавшим на завод по случаю 14-й годовщины Октября. Под его стихотворными строчками стоят подписи Дмитрия Кедрина и Павла Почтовика (редактора "Кузницы").
Еще до начала работы в заводской газете Кедрин собрал рукопись первого своего стихотворного сборника (в основном из произведений, написанных уже в Москве), назвал ее "Свидетели" и отнес в Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) Василию Казину. Тот пообещал дебютанту, что при положительном решение худсовета книга будет издана в начале 1932 года.
Как мы теперь знаем, книга действительно вышла под редакцией В. Казина и с тем же названием, но в сильно измененном и урезанном виде. И произошло это с опозданием — против первоначально обещанного срока — на целых восемь лет…
Дмитрий Кедрин, конечно, и предположить не мог, каким долгим будет ожидание. Он добросовестно работал в многотиражке, учил рабкоров владеть словом и сам подавал им в этом пример. Ему удавалось уже в заголовке материала сказать многое — "В девять дней рабочие вагоносборки прокуривают целый вагон", "Инженер Есученя притерся к стулу"… Литсотрудник собирал материалы для очерков, например, о заводском двадцатипятитысячнике В. Н. Суханове и не замечал, что сам становится героем книги. Книги, которая увидела свет намного раньше "Свидетелей". Речь идет о романе Александра Кононова "Упразднение Мефистофеля", созданном молодым прозаиком в основном на материале мытищинских впечатлений. Автор часто бывал на Вагонном, неплохо знал его людей и особенно дружил с газетчиками. В романе, имеющем подзаголовок "Хроника событий и чувств", среди действующих лиц есть литсотрудник многотиражки. В этом герое было нечто от Кедрина, но в еще большей степени черты поэта угадывались в образе писателя Фирсова, от лица которого велось повествование. И когда роман в 1932 году увидел свет, заводские книгочеи сразу же разобрались, кто с кого "списан".
Среди стихотворений, входящих в кедринские книг", лишь в одном ("Христос и литейщик") прямым включением, как бы сказали мы сейчас, показан мытищинский завод:
Тонет в грохоте Швеллерный,
Сборка стрекочет и свищет,
Гидравлический ухает,
Кузня разводит пары.
Это дышит Индустрия,
Это Вагонный в Мытищах,
Напрягаясь, гудит,
Ликвидируя долгий прорыв.
Дыхание индустрии, прочувствованное поэтом в годы, отданные заводской газете, осталось с ним на всю жизнь. Когда в стихах военной поры мы встречаем у Кедрина редкое, специальное слово "бессемер" ("Все Бессемеры тыла, как один, солдату отвечают: "Будь спокоен!"), то объяснить его появление совсем нетрудно. Несколько месяцев оно не сходило со страниц "Кузницы", взявшей шефство над строительством сталелитейного цеха. И был рапорт газете "Правда": "Коллектив Мытищинского вагонного завода сегодня, 8 ноября, дает первую сталь нового Бессемера". В поэме "Уральский литейщик", несмотря на ее четкую географическую привязку, история обычной рабочей семьи выстроена на основе прежде всего подмосковных, мытищинских впечатлений и знакомств поэта, который сам восточнее Уфы не бывал.
И все-таки основное, что дала Дмитрию Кедрину его работа в большом заводском коллективе, — это возможность личного участия не только в технической реконструкции завода, а в более сложном деле — в воспитании нового человека.
"Надо много и внимательно наблюдать жизнь", — напишет он, уже став консультантом, одному начинающему литератору. Для него самого наблюдение, причем длительное, не в жестких рамках творческой командировки, за жизнью многотысячного отряда вагоностроителей было большой школой. Действенность ее уроков была усилена тем, что Кедрин и наблюдал, и активно вмешивался в ход наблюдаемого, деятельно поддерживал тягу рабочего человека к культуре, ко всему передовому. Себя же он при этом отнюдь не считал неким венцом творения, перлом создания. Некоторые свои качества он мысленно заносил на "черную доску" — была такая в "Кузнице" наряду с привычной нам "Доской почета".
Пожалуй, одно из наиболее самокритичных стихотворений Кедрина — это "Двойник", где автор в число своих предков включает недоросля, изучая в себе самом признаки обывателя, — "равно неприязненный всем и всему, — он в жизнь эту входит, как узник в тюрьму…"
Провозгласив сердце ареной борьбы, которую ведет сама эпоха, поэт подкрепляет этот обязывающий образ стихами-поступками, затрагивающими самых близких ему людей. В "Кровинке" и "Беседе" лирический герой ведет нелицеприятный разговор с собственной матерью и с женой. Ситуации разные, но у них общая подоплека — социальная неустроенность быта. Печать времени в обоих стихотворениях проявилась в том, что в них сильны обвинительные ноты. Нынешнему читателю с этим трудно согласиться или примириться. Прав был Евгений Евтушенко, заметивший по поводу "Кровинки", что вообще недопустимо так говорить о матери. Но давайте посмотрим с другой стороны — за что заступается поэт? И там, и там — за жизнь, взятую в ее крайних проявлениях. В "Беседе" его волнует судьба еще не родившегося человека:
Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,
Этот неживший мальчик, вытравленный тобой?
В "Кровинке" речь идет о жизни старой матери — о жизни, под ударами быта превратившейся в убогое существование. Женщина, которая когда-то "влюблялась, кисейные платья носила, читала Некрасова", не просто поблекла и поседела. У нее между неподъемными жерновами рынка и кухни "душа искрошилась, как зуб, до корня". А сын никак не может согласиться с ее мольбами жить потише, без волнений, пряча от людей свою суть.
Затем, что она исповедует примус,
Затем, что она меж людей, как в лесу, —
Мою угловатую непримиримость
К мышиной судьбе я, как знамя, несу.
Нелегко дается поэту этот разговор. Дважды по ходу его меняется характер обращения к матери: с третьего лица — ко второму и обратно к третьему ("родная кровинка течет в ее жилах" — "дотла допылала твоя красота" — "мне хочется расколдовать ее морок"). Концовка стихотворения подчеркнуто активна — "Я все ж поведу ее, ей вопреки!". Если бы сказано было "поведу тебя", то решение сына вывести мать на "солнечный берег житейской реки" осталось бы внутрисемейным делом. Здесь же свидетелем решительных слов делается читательская масса.
С этой точки зрения интересно сопоставить "Кровинку" с одним из наиболее известных кедринских стихотворений- с "Куклой". В нем тоже борьба за настоящую жизнь, на этот раз — за жизнь маленькой соседской девочки, дочери вечно пьяного грузчика.