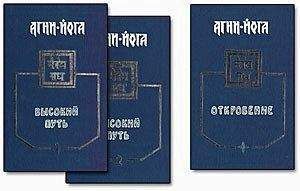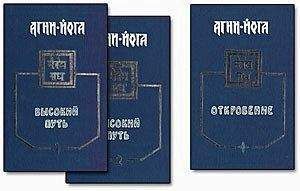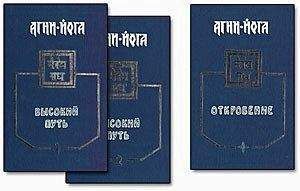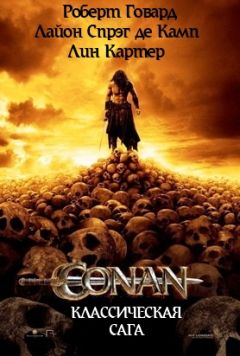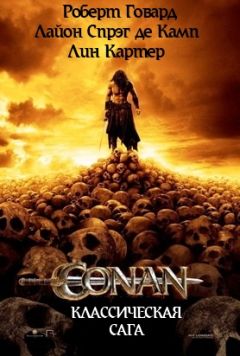Николай Рерих - Агни Йога. О вечном (сборник)
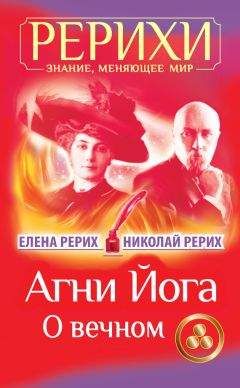
Помощь проекту
Агни Йога. О вечном (сборник) читать книгу онлайн
В этом же периоде, благодаря гр. Уварову, В. Васнецову удалось выступить еще в новом направлении, а именно: украсить одну залу Московского Исторического музея фресками сцен каменного века. В них, правда, Васнецову не удалось еще вполне овладеть духом и характером древней эпохи, но все же по настроению и по краскам эта стенопись является ценным вкладом в русскую живопись и лучшим произведением Музея.
Второй период деятельности Васнецова является несравненно ранее подготовленным, нежели третий период, период религиозной живописи. К сказкам и к истории Васнецов подготовился уже давно, еще среди своих первых реалистических работ, занимаясь литографическими рисунками к изданиям сказок (Жар-Птица, Козел Мемека и др.). Такие наброски, с одной стороны, помогли ему овладеть сказочными изображениями, но, с другой стороны, нанесли и значительный вред, внеся в творчество Васнецова почерк иллюстратора, от которого впоследствии ему приходилось с трудом избавляться. Всматриваясь в Аленушку, а также в Иоанна Грозного и в Снегурочку, можно с уверенностью сказать, что, взгляни на сказочную живопись Васнецов более непосредственным взглядом, и, наверное, волк под Иваном Царевичем не был бы из мехового магазина, в Побоище не легли бы тела в театральном порядке и не засветила бы луна бутафорским способом. Такие недочеты без иллюстрационной заказной заразы не могли бы явиться у человека, так просто понявшего концепцию поэтичной Аленушки, с родными приречными камешками и узорчатыми елочками, красоту которых никто до Васнецова не сумел постичь.
Меньше, чем в сказочных картинах, могло повредить Васнецову иллюстраторство в его работах религиозных, начатых росписью Владимирского собора в Киеве. По своему характеру, по семейным традициям и по воспитанию, сын священника, воспитанный в семинарии, вдумчивый Васнецов сумел внести много ценного в нашу религиозную живопись. Канонически верные, близкие старинным образцам церковные изображения Васнецова стоят притом на такой высокой ступени художественности, что по справедливости должны были завоевать расположение и восторг огромного большинства; тому же способствовало и общее настроение прошлого десятилетия, отвернувшегося от натуралистических изображений. Недовольными остались лишь небольшие кучки: одни, не удовлетворяясь глубиною проникновения художника духом русско-византийской живописи, находили его сочинения поверхностными и утрированными; другие – под влиянием живописи предыдущего времени, в соборах Христа Спасителя, Исакиевском и т. п., не видели в образах Васнецова молитвенного настроения. Но эти недовольные остались в совершенном меньшинстве, и все русское общество признало В. Васнецова главою нашей теперешней религиозной живописи. В самое короткое время художнику пришлось исполнить массу религиозных заказов для дармштадстской церкви, для храма Воскресения в Петербурге, для церкви во Владимире и др.
Наряду с живописью религиозною совершенствовался Васнецов и в создании драгоценнейших образцов орнаментики, почерпнутой из богатой мотивами старины русско-византийской. Среди живописных работ он не погнушался, тоже первый из русских художников, внимательно отнестись и к делу художественной промышленности, сознавая всю важность вмешательства художников в создание даже мелочей жизненного обихода; таким образом, и в этом отношении В. Васнецов шел впереди современных русских художников, до сих пор еще не вполне почувствовавших значение истинной художественной промышленности, в области которой так счастливо работают многие лучшие художники Европы.
Мотивы декораций, обстановки, орнаментов, виньеток, наконец, проекты внешней росписи Кремлевского дворца и Третьяковской галереи в Москве доказывают, как чутко, разносторонне относится Васнецов ко всяким нуждам жизни искусства. Его личное обособленное положение среди художников, его домашняя обстановка на старинный лад, с бревенчатыми стенами и расписными печами, свидетельствуют, как глубоко и неразрывно со всем его существом живет стремление к старой Руси.
Сказочная, богатырская Русь пройдет красной нитью по всей деятельности Васнецова, ее не могут заглушить ни живопись религиозная, ни проекты росписей дворца и орнаменты. Так, во время работ в Киевском соборе не переставала создаваться последняя картина Васнецова «Богатыри», бывшая одним из самых последних приобретений П. М. Третьякова для его галереи.
Публике особенно понравилась эта картина. В ней видели как бы синтез проникновения в богатырскую старину, тогда как в самом деле многие из менее замеченных произведений Васнецова более отвечали на такое требование. В «Богатырях» же медленность их создания поглотила вдохновенные образы и заменила их рассудочным рассказом и собиранием типичных богатырских атрибутов. Хотя вместе с этим нельзя пройти мимо крупных достоинств картины, мимо красоты дальнего пейзажа, мимо гармонии некоторых красочных сочетаний, мимо серого неба с величавыми кучевыми облаками, мимо хвойного бора и любимых художником елочек. Пожалуй, может показаться странным, что при гигантских образах богатырей можно говорить об убогой елочке, помнить о скромной Аленушке и об изображениях к Снегурочке… Но велика по своему значению для русской живописи проникновенность Васнецова в серую красоту русской природы, важно для нас создание Аленушки, и дорого мне было однажды слышать от самого Виктора Михайловича, что для него Аленушка – одна из самых задушевных вещей.
Именно такими задушевными вещами проторил В. Васнецов русский путь, которым теперь идут многие художники.
Юон и Петров-Водкин
В далеких Гималаях получены две прекрасные книги о замечательных русских художниках Юоне и Петрове-Водкине. Обе книги изданы в Москве в 1936 году.
Видимо, художественные редакторы Г. А. Кузьмин и М. П. Сокольников потрудились, чтобы оправить творчество мастеров достойно. Удачно собраны картины и хороши цветные воспроизведения. Тексты Я. В. Апушкина о Юоне и А. С. Галушкиной о Петрове-Водкине вдумчивы и дают богатый материал.
Апушкин начинает книгу о Юоне словами:
«В Москве, в Третьяковской галерее, есть портрет Юона работы Сергея Малютина, помеченный 1914 годом. Это крепко и сочно, в присущей Малютину манере сделанное полотно ценно для нас не только как самодовлеющее произведение искусства и не только как внешне точная передача изображаемого лица. Нет, ценность этого портрета значительнее и глубже, ибо он является попыткой проникновения во внутренний мир изображаемого, является опытом психологического раскрытия и объяснения человеческой личности.
Несмотря на то, что с момента написания портрета прошло более 20 лет, несмотря на то, что 17 из этих 21 опалены бурным дыханием революции, несмотря на то, что Юону сейчас уже не 39, а почти 60 лет, портрет этот сохраняет весь свой смысл и всю силу удивительно верной характеристики, данной художником художнику.
Вот вглядитесь. На тахте, в несколько небрежной и в то же время удивительно покойной, я бы сказал, эпической, позе сидит человек. На нем черный, строгий, хорошо сшитый сюртук; плечом он прислонился к стене; одной рукой, несколько вывернутой, он опирается на колено, другой – на край тахты. У человека круглая, коротко, почти по-татарски, остриженная голова. Черным, тщательно подбритым клином на белизне крахмального воротничка выделяется борода. Под такой же черной, так же тщательно подбритой полоской усов спокойный, с несколько утолщенными губами рот. И глаза, внимательные, пристальные глаза человека, привыкшего видеть, глаза живописца. Это Юон.
Он спокоен, корректен, точен; он внимательно и углубленно задумчив; ни капли богемности, ни на йоту романтической “вдохновенности”, никакой внешней растрепанности и никакой растрепанности чувств и мыслей. Он весь как бы собран воедино и ясен. И если нужно какое-нибудь слово, которое наиболее точно выражало бы его человеческую сущность, это слово будет “мастер”».
…«В современной действительности художник прежде всего хочет видеть ее положительные стороны, а в человеке – сильного строителя новой жизни. В этом подъемном восприятии окружающего и положительном отношении к советской действительности и заключается основная ценность его искусства. Такие работы, как “После боя”, “Матери”, “Смерть комиссара”, являются большим вкладом в советское искусство. Лишенные случайности и бытовой мелочности, они исполнены простоты, ясности и проникнуты героическим пафосом. Новые задачи, поставленные Петровым-Водкиным в последних работах, расширяют его искусство за рамки станковизма. Художник проявляет определенное стремление к монументальности и идет к завоеванию новых форм».
Характеристики глубоки; еще надо добавить, что оба мастера остаются художниками русскими. Разные они, совсем не похожи друг на друга, но русскость живет в них обоих. Убедительность их творчества упрочена исконною русскостью. И в этом их преуспешность.