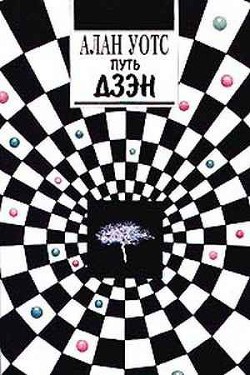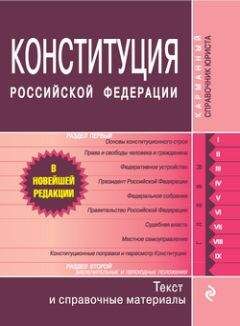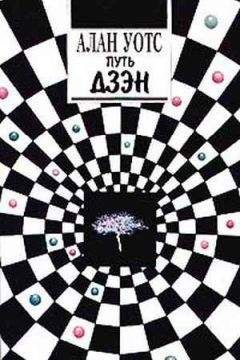Мир дзэн - Коллектив авторов
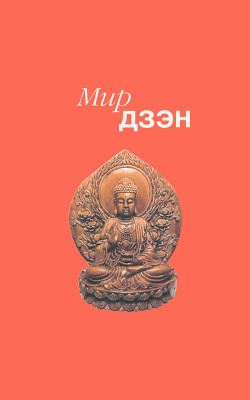
Помощь проекту
Мир дзэн читать книгу онлайн
На следующий день все идут просить милостыню (такухацу). Пошел дождь, и, защитившись от него накидкой из промасленной бумаги и обув легкие соломенные сандалии, все выходят наружу. Лица просящего дзэнбо не видно за большими полями соломенной шляпы. Идут не спеша, далеко друг от друга, мерно распевая один и тот же звук и нигде не останавливаясь. Так долго-долго шагают они по улицам и переулкам Киото. Промокнув до нитки, они возвращаются к себе, под пение сутр входят в ворота содо и складывают свой скудный «улов». Дождь шумит до вечера, и сумерки в дзэндо кажутся зелеными.
На следующее утро, когда все вместе с дзикидзицу пили чай, в дзэндо заглянул профессор колледжа, который снимал комнату в одном из зданий содо, и заговорил о коанах. «Когда вы поймете дзэн, то узнаете, что вон то дерево — настоящее». Это был единственный раз за всю неделю, когда заговорили о дзэнском мироощущении и практике. Дзэнбо никогда не обсуждают между собой ни коаны, ни сандзэн.
Сэссин заканчивается рано утром восьмого дня. Все его участники собираются в комнате дзикидзицу, пьют измельченный зеленый чай и едят печенье. Разговор непринужденный — все уже позади. Дзикидзицу, который всю неделю раздавал шлепки и удары, теперь лучший друг для всех — сочувствие имеет много форм.
А. Уоттс
Дзэн битников, «правильный» дзэн и просто дзэн[139]
Англосаксу, в отличие от японца, трудно принять столь специфически китайское явление, как дзэн. Китайское — потому, что, хотя само слово «дзэн» японское и именно в Японии сейчас его дом, дзэн-буддизм есть творение китайской династии Тан. Это вовсе не попытка обоснования тезиса о сложности постижения других культурных ценностей. Просто я хочу сказать, что люди, у которых есть потребность в самооправдании, с трудом соглашаются с тем, что, например, другим это совсем не нужно; так, китайцы, которые создали дзэн, были такими же, как Лао-цзы, который много веков назад сказал: «Те, кто оправдывается, не внушают доверия». Желание сделаться правым или хотя бы доказать это самому себе всегда смешило китайцев — как конфуцианцев, так и даосов. Несмотря на кардинальные различия в своих взглядах, обе эти школы сходились в одном — они всегда ценили и ценят того человека, который может «преодолеть это». Конфуций, например, учил, что гораздо лучше для человека быть добросердечным, чем правым, а для великих даосов Лао-цзы и Чжуан-цзы было очевидно, что нельзя быть правым, не будучи одновременно неправым, — одно так же неотделимо от другого, как не бывает переднего без заднего. Как сказал Чжуан-цзы, «те, кто имеет хорошее правление, не зная дурного правления, и знают правильное, не зная, что есть неправильное, не понимают законов Вселенной».
На взгляд западного человека, это чистейшей воды цинизм, а умеренность и компромисс, столь почитаемые конфуцианцами, — почти отказ от принципов. На самом же деле это образец совершенного понимания и уважения к тому, что принято называть равновесием природы и человека, иначе говоря, — универсального ощущения жизни как Дао, или такого пути природы, на котором добро и зло, созидание и разрушение, мудрость и глупость всегда будут двумя полюсами существования. «Дао, — говорится в Чжун юне, — это то, из чего нельзя уйти. То, из чего можно уйти, не есть Дао». Поэтому мудрость состоит не в том, чтобы искусственно оторвать плохое от хорошего, а в том, чтобы научиться «приспосабливаться» к ним, как легкая лодка приспосабливается к изменчивым волнам. В самом устройстве китайской жизни всегда чувствуется принятие и плохого, и хорошего в человеке, что, в общем-то, чуждо людям, воспитанным с ощущением неспокойной совести, столь характерным для иудео-христианских культур. Китайцу всегда было ясно, что человек, который не доверяет сам себе, не может верить даже своему недоверию, и потому смятение вечно владеет им. (…)
…Интерес к дзэн не стихает на Западе вот уже лет двадцать, и тому есть самые разнообразные причины. Обращение дзэнского искусства к «современному» духу Запада, просветительская деятельность Д. Т. Судзуки, война с Японией, своеобразное обаяние «дзэнских рассказов», привлекательность неконцептуальной практической философии, развивающейся в атмосфере научного релятивизма, — все это сыграло свою роль. Можно вспомнить еще и определенные точки сближения между дзэн и такими истинно западными философскими направлениями, как школа Л. Витгенштейна, экзистенциализм, общая семантика, металингвистика Б. Л. Уорфа, ряд направлений в философии науки и психотерапии. Но в самой глубине нас таится смутное недовольство «противоестественностью» как христианства с его политически организованной космологией, так и технологии с ее имперской механизацией естественного мира, от которого человек чувствует себя предельно отчужденным. И то и другое отражает психологию, в которой человек идентифицируется с сознательным разумом и отделяется от природы, чтобы властвовать над ней, точно Бог-Создатель, по образу которого, собственно, и сформировано именно такое понимание человека. Беспокойство вырастает из подозрения, что наши старания по усовершенствованию мира извне есть порочный круг, замкнувшись в котором, мы обрекаем себя на вечное беспокойство, контролируя все, что можно, и надзирая за всем, чем можно, и так до бесконечности.
Для западного человека, жаждущего объединить человека и природу, привлекательность дзэн состоит в его удивительной естественности — в пейзажах Ма Юаня и Сэссю, в искусстве, одновременно духовном и мирском, которое раскрывает мистическое в символах естественного и, собственно, никогда не отделяет одно от другого. Этот взгляд на мир позволяет увидеть его по-новому, как целое, что поистине живительно для культуры, в которой духовное и материальное, сознательное и бессознательное уже давно искусственно оторваны друг от друга. Именно поэтому китайский гуманизм и натурализм дзэн занимают нас гораздо сильнее, нежели буддизм Индии или веданта. Эти учения, конечно же, имеют своих приверженцев на Западе, но, скорее всего, здесь мы имеем дело не более чем с заменой христианства другой верой — люди тянутся к более гибкому взгляду на мир, чем вера в сверхъестественное, которая и есть основа вечного христианского ожидания чуда. Идеальный человек индийского буддизма — это сверхчеловек, йогин, абсолютный хозяин самого себя, что точно совпадает с научно-фантастическим идеалом «надчеловеческого человека». Но будда, или пробужденный человек китайского дзэн, — «обычный человек, в котором нет ничего особенного»; он до смешного человечен, как те дзэнские бродяги, которых рисовали Му-ци и Лян Кай. Это нас и привлекает, потому что впервые понятия святого и мудреца становятся ближе, они не сверхчеловеческие, а просто человеческие и, кроме того, чужды всякому высокопарному и бесполому аскетизму. Далее, сатори в дзэн, т. е. пробуждение нашего «первоначального единства» со Вселенной, несмотря на сложность его обретения, по-видимому, всегда рядом с нами. (…)
…Самое главное, я уверен, дзэн привлекателен для постхристианского Запада потому, что он не проповедует, не морализирует и не осуждает, подобно иудео-христианским пророкам. Буддизм не отрицает, что существует ограниченная сфера, в которой жизнь человека можно улучшить искусством и наукой, разумом и доброй волей. И все-таки сфера эта считается буддистами хоть и важной, но подчиненной другой, почти безграничной, где все вещи таковы, каковы они есть, были и будут, — эта сфера находится вне понятий добра и зла, победы и поражения, здоровья и недуга. (…)
…Иудео-христианский мир устроен так, что в нем моральные императивы, страстное желание быть правым преобладают над всем остальным и подавляют буквально все. Бог, сам по себе Абсолют, хорош в противопоставлении плохому, и потому быть бессмертным или ощущать свою неправоту значит чувствовать себя выброшенным не только из жизни, но из существования как такового, оторванным от корня и от почвы. Чувство неправоты, в свою очередь, вызывает какой-то прямо метафизический страх и чувство вины, страх неизбежного наказания, которое зачастую непропорционально сурово по сравнению с самим прегрешением. Это ощущение метафизической вины настолько безосновательно, что оно обязательно ведет к отрицанию Бога и его законов — а именно это мы и видим в течениях современного секуляризма, материализма и дуализма. Абсолютное морализаторство ведет к разрушению самой морали, потому что кары, налагаемые за проступки, непомерно тяжелы. Головная боль не лечится отсечением головы. Привлекательность дзэн и любой другой формы восточной философии состоит в том, что они оставляют в покое противопоставление добра и зла. Их интересует безграничная человеческая личность, по отношению к которой не чувствуешь никакой вины и где, наконец, человек не отделяется от Бога.