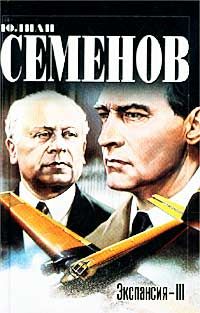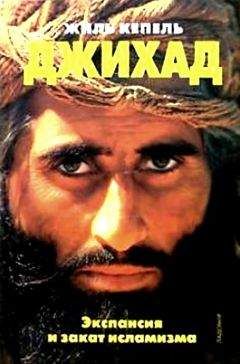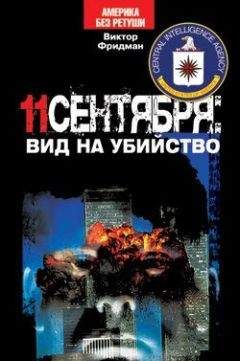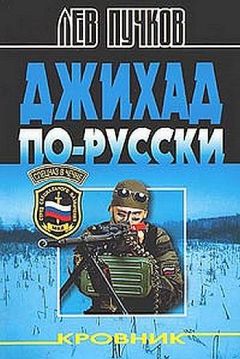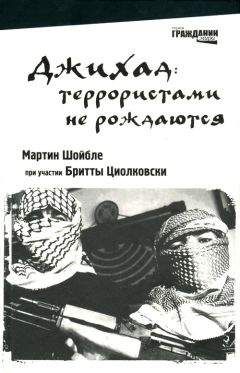Джихад. Экспансия и закат исламизма - Кепель Жиль
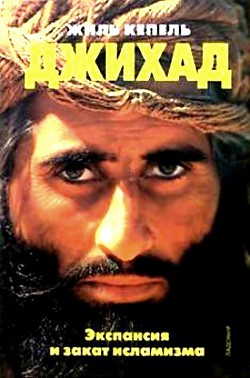
Помощь проекту
Джихад. Экспансия и закат исламизма читать книгу онлайн
Меланхолия человека, «разочаровавшегося в исламизме», представляет особый интерес, учитывая личность автора и позицию газеты, опубликовавшей его статью, — глашатая антисионизма, рупора радикального исламизма и арабского национализма.[493] В своей сильно идеологизированной статье, рассчитанной на активистов движения, Эфенди указывал на три фактора, приведшие к провалу, которые совпадают с теми, что мы выявили на страницах этой книги: крушение утопии, не выдержавшей испытание временем и властью, конфликт между различными составляющими движения, проблема демократии. Но там, где апологет видел лишь столкновение личностей, на наш взгляд, вырисовывался социальный антагонизм между набожными средними классами и неимущей городской молодежью. Когда Эфенди изображает демократию в роли ориентира исламистского движения со времен аль-Банны — что заслуживает отдельной дискуссии, — мы видим здесь стремление средних классов и части исламистской интеллигенции (к коей принадлежал сам автор) вступить в союз со светским гражданским обществом,[494] чтобы выйти из той ловушки, в которую их завела исламистская политическая логика.
В другой стране, упоминавшейся Эфенди, — Малайзии, где вундеркинд местного исламизма Анвар Ибрахим был обвинен в гомосексуализме диктатором Махатхиром Мохаммедом, некогда вознесшим его на вершину славы, а потом втоптавшим в грязь, — сторонники жертвы оказались перед сходной дилеммой. В период своего триумфа они были самыми рьяными защитниками авторитарного режима, который привлекал их на службу, прикармливал и обогащал.[495] Они не особенно заботились о демократии, поскольку следовали культу «азиатских ценностей», исповедовавшемуся Махатхиром, — пародии на идеологию, в которой провозглашается примат общины над личностью в Азии и отвращение к свободе, этой проклятой «западной ценности». Между тем, устраивая демонстрации против Махатхира, именно среди демократов они встречали самых верных своих союзников. Об этом свидетельствовал, выйдя из тюремных застенков, друг Анвара, опороченного услужливой прессой, — Мунаввар Анис, известный исламист-интеллектуал, в прошлом большой специалист по разоблачению «западных заговоров». Вырванный из когтей мусульманского диктатора благодаря заступничеству западных же правозащитников, он подверг суду совести свои прежние взгляды, обильно цитируя при этом Томаса Джефферсона. Здесь тоже, как мы видим, именно к светскому гражданскому обществу повернулись «разочарованные в исламизме» представители средних классов и интеллигенции, желая заключить с ним союз, который позволил бы им с наименьшими потерями вписаться в рынок глобализации, открывшийся на заре третьего тысячелетия.
Если афганское или суданское фиаско били по микромиру суннитского «Лондонистана» (как сами его обитатели называют мир беженцев, журналистов, активистов и «зеленых финансистов», осевших в британской столице), то провал политического проекта Исламской Республики Иран сильно охладил тот всеобщий энтузиазм, которым движение в целом было охвачено к исходу XX века. «Победы» в Афганистане и Судане суннитских исламистов, в одном случае оплаченных и вооруженных Саудовской Аравией и ЦРУ, в другом — пришедших к власти в результате военно-религиозного переворота, едва ли можно было сравнить с настоящей революцией, произошедшей в Иране. При всей своей шиитской специфике она воплощала в себе исламистскую утопию в широком смысле этого слова. За 8 лет войны с Ираком одна социальная группа — торговцы базара и аферисты, связанные с религиозно-политическим режимом, — сделали исламскую республику своей собственностью.[496] При этом пострадали прежние элиты шахских времен, но прежде всего — неимущая молодежь, которую сначала бросили на штыки императорской гвардии, а с окончанием революции отправили умирать на иракские минные поля.[497] По «термидорианской» логике, санкюлоты иранской революции были удалены из нервных центров системы, получив взамен мораль и религиозный ригоризм. Этих бедняков, пожертвовавших собой, чтобы быть вновь отброшенными на низшую ступень социальной лестницы, режим щедро вознаградил женщинами из среднего класса, вынужденными носить чадру, которых пасдараны, басиджи и прочие бродяги, одетые в военный камуфляж, могли арестовывать и унижать, стоило тем показаться «недостаточно укрытыми». В 1989 году Хомейни издал фетву, приговаривавшую к смерти Салмана Рушди. Это было не что иное, как зловещий обет радикализму, призванный замаскировать то, что благодаря саудовскому сдерживанию революцию не удалось экспортировать и что она предала надежды массы своих сторонников, которых отныне кормили символами, вместо того чтобы реально улучшать условия их жизни.
На протяжении 90-х годов сама демография, столь успешно «работавшая» на исламистскую идею двумя десятилетиями ранее, переполняя городские окраины молодежью — той, что встанет на ее защиту, — производила обратный эффект. Демографический взрыв сменился регулярным и стремительным падением рождаемости среди новоиспеченных горожан, столкнувшихся с неразрешимыми жилищными проблемами. Их жены, получившие возможность трудоустройства, были вынуждены ограничивать себя в желании иметь детей, подчиняясь требованиям городской жизни. Вопреки идеологии исламистских деятелей, видевших в детских колыбелях завтрашних воинов джихада, молодые супружеские пары, населявшие в 2000 году крупные города мусульманского мира, руководствовались прежде всего заботами о собственном благосостоянии. Эти соображения подразумевали снижение рождаемости, в результате чего на смену семьям с семью и более детьми (что еще 20 лет назад было нормой) стали приходить семьи с 2–3 детьми.[498] В отличие от родителей, в большинстве своем родившихся в деревне и перенесших травму расставания с сельской средой, они родились уже в городе. Они принадлежали к той же письменной культуре, что и их отцы — первое грамотное в массе своей поколение, — в то время как отцов отделяла от дедов (неграмотных сельчан) культурная пропасть, способствовавшая культурному разрыву и проникновению радикальной исламистской идеологии. Дети бородачей уже не верили сказкам, которыми жило в 70-е годы прежнее поколение. Именно в Исламской Республике Иран, спустя два десятилетия после победы Хомейни в 1979 году, этот феномен проявляется сегодня наиболее ярко. В двадцатую годовщину революции достигло возраста зрелости поколение, не знавшее времен шаха. Оно столкнулось с массовой безработицей, репрессивной моралью и косным социальным порядком. Всем заправляют религиозные иерархи, исламские «фонды», контролирующие экономику вместе с базарными торговцами, и прочие бенефицианты Исламской Республики, противящиеся любой реформе, подрывающей их власть. На президентских выборах 1977 года это молодое поколение безоговорочно проголосовало против кандидата от религиозного истеблишмента, Натега Нури, и за кандидата сторонников «перемен» Хатами. Изменения происходят медленно: сам президент — выходец из сераля и носит тюрбан; его поле для маневра остается ограниченным, пока два других центра власти — парламент и пост «Вождя революции» — остаются в руках «консервативного» лагеря, контролирующего значительную часть судебного и репрессивного аппарата.[499] На парламентских выборах 18 февраля 2000 года с большим отрывом победили кандидаты-реформаторы — несомненный признак того, что отныне общество уже не устраивает социальный и моральный порядки, унаследованные от Хомейни. Неясность путей перехода от эры исламизма к «постисламизму» напоминает дебаты вокруг «посткоммунизма» в бывших советских республиках. В обоих случаях, независимо от их исхода, сложившаяся ситуация свидетельствует об этическом крахе модели, ставшей отныне достоянием истории, пройденным и отвергнутым, а не утопией грядущего будущего.