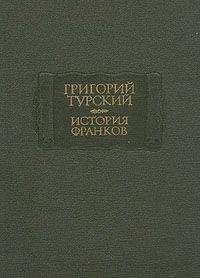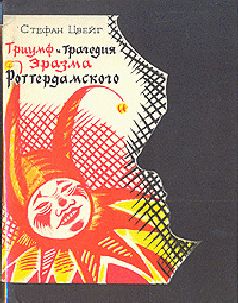Павел Бегичев - Уроки истории
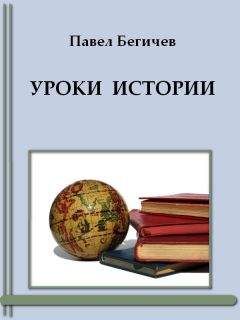
Помощь проекту
Уроки истории читать книгу онлайн
Это ли РЫБА (он же ИХТУС) Божьей мечты?
Не думаю…
А вы?
АнтиВалаам… Габра Микаэль
И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сепфоров: не откажись придти ко мне; я окажу тебе великую почесть и сделаю [тебе] все, что ни скажешь мне; приди же, прокляни мне народ сей.
(Чис.22:16,17)В желтой жаркой Африке, в восточной ее части жил да был юноша по имени Габра Микаэль. Французы звали его Мишель Гебре, а на родном эфиопском наречии это означало — раб святого Михаила. Видимо в те годы — а дело происходило в начале 19 века, еще до отмены рабовладения и работорговли в США и крепостного права в России — любой чернокожий эфиоп должен был принадлежать какому нибудь белому святому, хотя бы и Архистратигу бесплотному Архангелу…
Так или иначе, но юноша этот прославился не какой либо особенной приверженностью к ангельскому служению (хотя ангелоподобия искал и стал даже монахом). Габра Микаэль — потомок нескольких поколений коптских священников принадлежал к Истинной Церкви, как думали о ней ее представители — к эфиопскому дохалкидонскому монофизитству. А следовательно, с измальства был наставлен в том, что православие, католичество и протестантизм — это секты, ничего общего с христианством не имеющие…
Однако мальчик рос, получал богословское образование, участвовал в религиозных диспутах и вскоре засомневался в том, что только эфиопский вариант христианства верен и истинен.
А в зрелом возрасте настолько сблизился с инославными, что даже принял от католиков рукоположение.
Католики обычно трактуют его новые взгляды, как переход в католичество (он даже считается католическим святым), но присоединился к католиками Михаэль только формально. Всю жизнь он налаживал связи не только с католиками, но и с протестантами (хотя и спорил с ними о Богородице) и даже с православными.
Человек искренне считал, что им нечего делить. Признав богословие Халкидонского собора, он был искренне уверен, что со всеми можно договориться и убедить даже тех, кто заблуждается. Только для этого нужно прекратить поток взаимных проклятий и анафем.
Убеждение это было вскоре подвергнуто суровому испытанию…
В Африке дворцовыми переворотами никого не удивишь. Не удивился и наш Габра, когда на престол взошел новый правитель. Удивиться пришлось лишь тому, что эфиопский митрополит Салама воспринял очередную африканскую перестройку, как сигнал к тому, что пора навести и религиозный порядок в стране. Дескать, истинная церковь одна — так чего мудрить? Всех, кто не согласен — к стенке!
И начались казни католиков. Наш Габра Микаэль моментально публично признал себя католиком (ну навроде того, как многие русские в августе 2008 года носили значки с надписью «Я грузин» или немногие совестливые русские интеллигенты в годы еврейских погромов брали себе фамилию Рабинович). Габру схватили и начали пытать. Его жестоко избивали, морили голодом требуя проклясть ненавистных католиков.
И тут наш раб Михаила отказался совершить то, что за деньги согласился сделать древний моавитский пророк Валаам. Габра отказался проклинать иноверцев. Под пытками, мучимый голодом и страхом лютой казни он не сделал того, что с огромным удовольствием сегодня делают совершенно бесплатно сотни маленьких интернет–писателишек. Не стал проклинать инакомыслящих.
Старика бы казнили, если бы не заступничество британского консула, после которого казнь заменили лишением свободы. Однако Габра сидел не в тюрьме, его заковали в цепи и приковали к королевскому обозу. Так эфиопский экуменист превратился в путешественника поневоле. По этой же самой причине казнить его не было никакого смысла, ибо через пять месяцев пробежек за обозом старик умер совершенно естественной смертью.
Однако, за эти месяцы солдаты из охраны прониклись к старцу таким уважением (умирая от голода, Габра раздавал свой хлеб товарищам по несчастью), что не выбросили его труп на помойку, а похоронили с честью.
* * *Габра стал католическим святым, хотя оставался верен мнению, что Истинная Церковь гораздо шире человеком очерченных границ.
Вот пишу я эти строки и думаю: всего то и надо было старику — сказать, что все католики — еретики и пойдут в ад. Был бы свободен. И вместо пяти месяцев прожил бы еще лет пять–десять.
Проклятия древнего Валаама остановил Господь. Но с тех пор, кажется, решил завязать с этим делом. Нет сегодня ослиц, останавливающих безумие анафематствующих направо и налево, за деньги и за идею.
Зато есть Габры, которые готовы умереть за уверенность, что право решать вечную судьбу человека принадлежит Господу. И пока кто то еще умирает за Божьи права, Церковь небезнадежна.
Тот, кто умеет объяснять. Дидак Кадисский
Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа.
Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. И. ЛенинаГде то слышал я такую байку:
Некий миссионер, выступая с проповедью в техническом вузе, вынужден был отвечать на вопрос о том, как у человека впервые появляется мысль о преступлении. Пытаясь говорить с аудиторией на ее языке, он сформулировал такую фразу: «Мысль о преступлении человеку телепатически транслирует трансцендентально–ноуменальное тоталитарно–персонализированное космическое зло». Тут из под кафедры высовывается голова изумленного беса: «Как как ты меня назвал?»
Богословы привыкли все усложнять. Хлебом нас не корми, дай только придумать термины позаковыристей, да концепции понепонятней.
Может быть, именно поэтому упоминание о богословии так часто провоцирует у современного слушателя рефлекторное позевывание и быстрый взгляд на часы.
Страшно далеки мы, теологи, от народа.
К счастью, не все…
В 1743 году в испанском городе Кадисе родился мальчик с кратким и запоминающимся именем Хосе Франсиско Лопес–Гарсия Перес у Кааманьо.
С детства готовил он себя к карьере лузера, ибо никак не давалась ему учеба. В школе его дразнили тупицей Кадисом. По причине низкого уровня IQ, юношу не приняли в орден францисканцев. Только потом с большим трудом взяли двоечника к себе капуцины. Ну у них особенностью устава в те годы была длинная борода, поэтому любой даже самый тупой монах выглядел почтенным ученым мужем.
Тупица Кадис вырос и начал проповедовать на улицах Андалузии. И тут случилось странное: народ валом повалил к вчерашнему двоечнику.
Оказалось, что мальчик вовсе не туп, а просто с детства ненавидел наукообразную канцелярщину. В этом смысле он стал предтечей Корнея нашего Чуковского, написавшего некогда:
Сплошь и рядом встречаются люди, считающие канцелярскую лексику коренной принадлежностью… подлинно научного стиля.
Ученый, пишущий ясным, простым языком, кажется им плоховатым ученым. И писатель, гнушающийся официозными трафаретами речи, представляется им плоховатым писателем.
“Прошли сильные дожди”, – написал молодой литератор В. Зарецкий, готовя радиопередачу в одном из крупных колхозов под Курском. Заведующий клубом поморщился: – Так не годится. Надо бы литературнее. Напишите ка лучше вот этак: “Выпали обильные осадки”
Литературность виделась этому человеку не в языке Льва Толстого и Чехова, а в штампованном жаргоне казенных бумаг. Здесь же, по убеждению подобных людей, главный, неотъемлемый признак учености.
Некий агроном, автор ученой статьи, позволил себе ввести в ее текст такие простые слова, как мокрая земля и глубокий снег.
— Вы нe уважаете читателя! – накинулся на него возмущенный редактор. – В научной статье вы обязаны писать – глубокий снежный покров и избыточно увлажненная почва.
Статья или книга может быть в научном отношении ничтожна, но если общепринятые, простые слова заменены в ней вот этакими бюрократически закругленными формулами, ей охотно отдадут предпочтение перед теми статьями и книгами, где снег называется снегом, дождь – дождем, а мокрая почва – мокрой.
“Изобрети, к примеру, сегодня наши специалисты кирпич в том виде, в каком он известен сотни лет, они назвали бы его не кирпичом, а непременно чем то вроде легкоплавкого, песчано–глинистого обжигоблока или как то в этом роде”, – пишет в редакцию “Известий” читатель Вас. Малаков.
И “научность” и “литературность” мерещится многим именно в этом омертвелом жаргоне. Многие псевдоученые вменяют себе даже в заслугу такой тяжелый, претенциозно–напыщенный слог. Это явление не новое. Еще Достоевский писал:
“Кто то уверял нас, что если теперь иному критику захочется пить, то он не скажет прямо и просто: “принеси воды”, а скажет, наверное, что нибудь в таком роде:
— Привнеси то существенное начало овлажнения, которое послужит к размягчению более твердых элементов, осложнившихся в моем желудке”