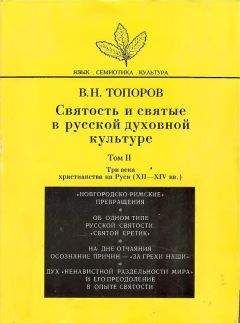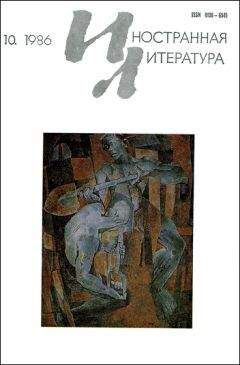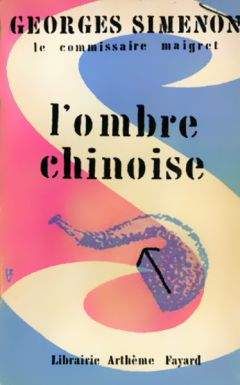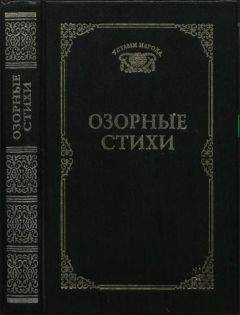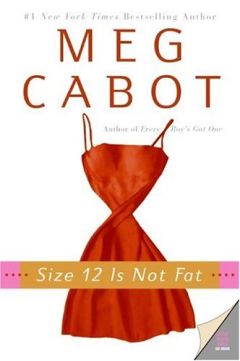Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.
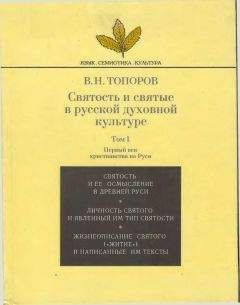
Помощь проекту
Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1. читать книгу онлайн
С той же «хозяйственно–экономической» стороны рассматривается проблема соотношения экономического «порядка» хозяйствования со сферой духовного, с социальным устройством общества и системой моральных ценностей, прежде всего с «порядком» этики, в работах Ф. А. Хайека, см. особенно Хайек 1992. Исходя из того, что «возникновение нашей цивилизации и сохранение ее в дальнейшем зависят от феномена, который можно точнее всего определить как "расширенный порядок человеческого сотрудничества"», автор пишет: «Для понимания нашей цивилизации необходимо уяснить, что этот расширенный порядок сложился не в результате воплощения сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно: он возник из непреднамеренного следования определенным традиционным и, главным образом, моральным практикам (practices). Ко многим из них люди испытывают неприязнь, осознать их важность они обычно не в состоянии, доказать их ценность неспособны. Тем не менее, эти обычаи довольно быстро распространились благодаря действию эволюционного отбора, обеспечивающего, как оказалось, опережающий рост численности и богатства именно тех групп, что следовали им. Неохотное, вынужденное, даже болезненное привитие таких практик удерживало подобные группы вместе, облегчало им доступ ко всякого рода ценной информации и позволяло "плодиться и размножаться, и наполнять землю, и обладать ею". Данный процесс остается, по–видимому, наименее понятой и оцененной гранью человеческой эволюции» (Хайек 1992, 15–16).
Для понимания этого процесса и создания оптимальных возможностей его формирования и сохранения–продолжения необходимо уяснение роли разума и соотношения «разумно–сознательного» и «инстинктивного», подсознательного. Выступая против «высокомерия» разума, обнаруживающего себя в учениях социалистического толка и не возражая против «разума, применяемого должным образом», Хайек пишет, что такой разум понимается им «как разум, учитывающий свою собственную ограниченность, умеющий и себя подчинять законам разума и вынесший необходимые уроки из установленного экономистами и биологами поразительного факта, суть которого состоит в том, что порядок, возникающий независимо от чьего бы то ни было замысла, может намного превосходить сознательно вырабатываемые людьми планы» (Хайек 1992, 18). В широком смысле из этого утверждения следует известная «относительность» и необходимость создания (наряду с разработкой эволюционной эпистемологии) эволюционной теории моральных традиций. «Этика, — пишет он, — должна признать свое происхождение, и тоща этот последний бастион человеческой гордыни падет. Такая эволюционная теория нравственности действительно появляется. В ее фундамент заложен постулат о том, что наши моральные нормы не порождены инстинктом и не являются творением разума, а представляют собой самостоятельный феномен — "между инстинктом и разумом". […] Этот феномен играет поразительную роль, позволяя нам применяться к проблемным ситуациям и к обстоятельствам, далеко выходящим за рамки возможностей нашего разума» (Хайек 1992, 22). Данные биологической эволюции и эволюции культуры подтверждают исключительную важность этой сферы «между инстинктом и разумом» и объясняют, почему человек «естественный» не вписывается в «расширенный порядок», почему из двух систем морали и соответствующих стратагем поведения — сотрудничество и конфликт — перспективнее конфликт в виде конкуренции, а не сотрудничество–кооперация, оправдывающее себя вполне лишь в применении к малым группам («Конкуренция представляет собой процедуру открытия, узнавания нового — процедуру, присущую эволюции во всех ее формах, заставляющую человека помимо собственной воли вписываться в новые ситуации. И именно за счет возрастающей конкуренции, а не за счет солидарности повышается постепенно наша эффективность». Хайек 1992, 38), и почему «человеческое сознание — не направляющая сила, а продукт культурной эволюции, и зиждется более на подражании, чем на интуиции и разуме» (Хайек 1992, 40; в этом случае автор вполне солидарен с точкой зрения Юма, согласно которой «правила морали […] не являются заключениями нашего разума»). В этом контексте возникает у Хайека и проблема происхождения свободы, собственности и справедливости (те же проблемы и в принципе таким же образом рассматриваются и Поппером в его книге об «открытом» обществе, см. Поппер 1992), которые латентно присутствуют и в «Житии» Феодосия, именно в связи с его личностью. Конечно, любое сравнение в этой области компрометировало бы само сравнение, но тем не менее, усвоив язык дня нынешнего, можно думать, что и для практики труженичества Феодосия свобода была неотделима не только от «жизни в Боге», но и от «расширенного порядка» (или, точнее, сам этот «порядок» обретался в «жизни в Боге»), как и справедливость. Собственно говоря, и собственность была для Феодосия той основой, на которой легче всего достигалась свобода и справедливость, но эта собственность, конечно, не понималась как индивидуализированная, личная, даже персонифицированная. Но при этом нужно помнить, что печерская братия при Феодосии все–таки была «малой группой», в которой солидарность была важнее «нестроений» конкуренции. При выходе же за стены монастыря установка, рассчитанная на «малую группу», работала все хуже и хуже. Отчасти внутренние, но прежде всего внешние обстоятельства объясняют те упущения, которые были сделаны и светской властью, и церковью, и обществом в этой сфере. Через три века к восполнению этих упущений приступил другой подвижник труженичества — Сергий Радонежский, который продолжил линию Феодосия, но уже в несравненно более широких масштабах.
697
Ср. выше об Антонии, который был «простъ умомь и не разумевъ льсти» (32б). Против этой простоты ума и направлена лесть–хитрость матери Феодосия в известном эпизоде прихода ее к святому в поисках сына. Ср. у Даля: «Простой человек — без хитрости и без большого ума» (3, 1341–1342). Савва Освященный, по словам Кирилла, его биографа, «бяше […] тихомь смысломь, кротокъ же нравомь, простомь умомь […] любовь же непорочну имяше къ блаженому оцю Феодосу» (Абрамович 1902:155).
698
Ср. к портрету Феодосия: «бяше бо и теломь благъ и крепокъ…» (36б).
699
Показательно в этом смысле значение др. — инд. prastha — "площадь", "горная равнина" (т. е. выдвинутая, открытая на показ ровность), восходящего к и.-евр. *pro–stho — (ср. ирл. ross "лес", "мыс" и т. п.). Характерны и значения слов того же корня, но с иными префиксами, ср. др. — инд. su–sthu — "находящийся в хорошем состоянии", su–sthana-, лит. ap–stus "обильный", "щедрый", "открыто–широкий", ap–stas "изобилие", но др. — греч. δύστος "несчастный" и т. п.
700
Ср. словен. prost "непринужденный", "свободный" и т. п. и др.
701
Ср., например:
Аще будет око твое просто [т. е. без хитрости, без коварства; в русском переводе — чисто. — В. Т.], все тело твое светло будет; аще же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. (Матф. 6, 22–23).
Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. (Матф. 10, 16).
К противопоставлению простоты–мудрости ср. еще: «[…] но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло» (Римл. 16, 19); ср. также о людях «некнижных и простых» (Деян. 4, 13).
702
Но, конечно, есть и та, потерявшая свою меру, простота, которая «хуже воровства».
703
Именно в этом смысле понимается здесь слово «свобода». Уместно напомнить, что понятие «религиозная свобода» есть contradictio in adjecto (даже на уровне языкового выражения, ср. re–ligo, ligo "связывать", "запрягать", "сдавливать" и т. п., т. е. "связанная свобода") и скрытое безбожие.
704
«Проще» в этом контексте не значит «легче», «безболезненнее» и т. п. и вообще не ориентировано на мирянина с его шкалой «трудное» — «легкое». «Проще» в данном случае должно рассматриваться исключительно в связи с человеком, отрекшимся от мира и думающим не о том, что ему трудно, а что легко, но о том, как ему избежать соблазна мира и приблизиться к Богу. В такой ситуации «проще» может быть понято как «инерционнее», «привычнее», без осложняющих обстоятельств. И гедонизм и аскетизм, особенно в крайних своих проявлениях, конечно, «проще» в этом отношении, чем «Средний путь», нуждающийся в обороне с двух сторон и постоянной бдительности, исключающей потерю курса, направления пути, утрату чувства границы, меры.
705
Ср. к теме молчания, столь важной для последующей истории русской святости («молчальники»), не говоря уж о византийском православии (ср. ησυχία и исихазм): «съ молчаниемь и съ съмерениемь» (29б), об отношении юноши Феодосия к насмешкам, упрекам и издевкам сверстников.