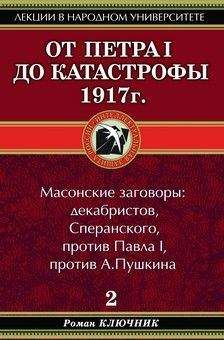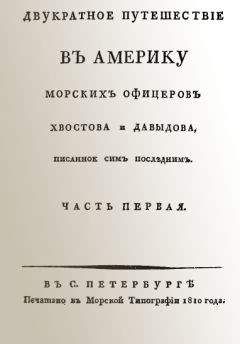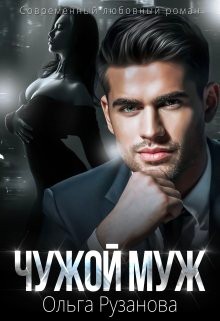В. Вейдле - Вечерний день

Помощь проекту
Вечерний день читать книгу онлайн
Когда странствуешь по этим дорогам, по деревням и городкам, кажется, что пришедшее позже, уже не укоренилось так глубоко, даже сделалось нередко искажающим придатком или ненужным украшением. Уже портики и фронтоны Возрождения кажутся здесь чужими, не говоря о бездушных постройках недавних лет. В века крестовых походов здесь легче перенестись, чем во времена последующих войн и революций. События новых времен думаешь, что они навязаны этой стране, как новый быт, лишь наклеенный кричащим ярлыком поверх старого, неменяющегося быта. Нет спору, здесь читают газеты и ведут предвыборные кампании; происходят манифестации; в лавках и в кабачках ведутся политические разговоры. Но всё это кажется лишь бумагой, да типографской краской на ней, только готовыми жестами и заученными словами. Смысл жизни не изменился там, где он вовсе не исчез. В каждом селении есть памятник павшим на войне, с уродливой статуей и с вырезанными на ее подножии именами. Но это лишь новые жалкие камни среди стольких старых камней. Интересы более прочные — сплетни, купли, помолвки, чудачества, привычки не изменились, только слегка иссохли, окостенели иногда. Они изменятся,' только когда их что‑нибудь заменит. Бумага этого не сделает. «Просвещение» не заменит света. И свет не погас, он только мягче, по–вечернему светит на эту старую, когда‑то согретую им землю.
Два мира не сменили один другой; они живут боко–бок, сами того не зная. В европейской глуши сквозь сегодня просвечивает вчера. Суеверия и предрассудки, обветшалый уклад жизни, суженный кругозор, они, как забытые камни этих башен, могил и церквей, как изгибы этой дороги и извилины этого ручья — не только лоскуты какой‑то дряхлой правды, не напоминания только и тени, но целый мир, еще не умерший в нас, еще видимый нам и для нас прозрачный. Наша старая душа обитает в нем, а новой мы еще не получили. Это всё та же Европа, всё та же, как первая любовь, и столько соединилось в ней для нас, что всё, что мы еще полюбим и поймем, будет чем‑то на нее похоже.
Воспоминание о Пуссене
В полдень, когда разливается свет из выходящих на Миллионную высоких окон, можно было, поднявшись по лестнице, войти в знакомую залу Эрмитажа, чтобы прислониться еще раз к одной из белых, прохладных' колонн и еще раз, как столько раз, потерять себя в четырехугольной бесконечности Пуссеновского «Полифема». Часы продолжают идти, но время остановилось понемногу, и мир уже безраздельно овладел душой. Пейзаж, висящий перед нами (как и другой, на стене против него), не то, чтобы растворял нас в себе, не то, чтобы мы тонули в нем, как мы тонем, затянутые вглубь Рембрандтовских полотен, нет, мы пришли без зова, мы как бы сами отворили дверь, и вот остановились на пороге, уже не в силах оторваться от того, что нам открылось, завороженные надолго этим сладостным покоем, этой просторной и прозрачной тишиной. Глаз испытывает одну за другой все формы, но не остается прикованным ни к одной из них: ни три фигуры на первом плане, — как музыкальная фраза, с которой начинается волшебство, — ни тот гигант в глубине, выростающий из скалы и сливающийся с синевою неба, не удерживают нас на долгий срок; вновь и вновь возвращаемся мы к чувству целого, к созерцанию мира, заключенного в раме и плоскою, сухою краской чудодейственно углубленного на холсте. Тайна радости нашей, быть может в том, что всё одновременно в этом мире и не совсем по–здешнему бесконечно и не вполне земною мерой ограничено. Не потому ли перед картиной и дышем мы так глубоко и вместе так спокойно? Не потому ли, отнимая нас у наших страстей, у наших забот, она тем самым возвращает нас нам самим, нашему подлинному личному бытию, нашей забытой общей родине?
Спору нет, старый друг и биограф Пуссена был прав, когда говорил, что картины его дают ощущение блаженного покоя. Только напрасно пытается он ощущение это объяснить соответственною темой и чуть ли не поучительным намереньем. Напрасно и мы будем объяснять его чем‑нибудь, что всего лишь видимо в картине. Вспоминая издалека петербургские пейзажи Пуссена, я не столько вижу их перед собой, сколько переживаю вновь то, что они так много раз дарили мне когда‑то, — видение, которое уже не столько видишь, сколько в нем живешь, счастье, которое не усматриваешь уже, а испытываешь реально, тот смысл, то существо, которое, чем подлинней искусство, тем яснее проступает сквозь него и благодаря которому, чем больше всматриваешься в картину, тем меньше видишь краски и формы на холсте и тем больше приобщаешься сквозь них тому, чего на земле не увидать глазами.
**
По образу этого личного воспоминания можно представить себе и то воспоминание о Пуссене, которое лежит в основе французского искусства за последние три века его истории. И если такое сближение возможно, то именно потому, что воспоминание это — нечто более глубокое, чем подражание, школа, выучка; даже, чем национальная преемственность и поколениями воспитанное предрасположенье. Как в памяти личной, так вспоминаются и здесь не готовые формы, созданные Пуссеном, а то, ради чего создал их Пуссен, то, что он за ними ощущал, то, что он в них сделал ощутимым. Не картины Пуссена вызывают картины, продолжающие их, а узнанный в них мир узнается снова и ищет для себя по необходимости родственного формального воплощения. Разумеется, всё это значит в конечном счете, что воспоминание о Пуссене есть на самом деле воспоминание сквозь него обо всем том, что французское искусство искони считает своим достоянием и что составляет во все века его неотъемлемую сущность. И тем не менее, в живописи по крайней мере, этот стержень, этот центр французского искусства связан навсегда с величайшим из французских художников: он или память о Пуссене или предчувствие его. Всё своеобразие французской живописной традиции, всю свободу, предоставляемую ею отдельному живописцу, можно оценить лишь, если понять ее не как формальную только, но как духовную, как такую, в которой властвует Пуссен, именно потому, что он всего глубже сумел осуществить присущую ей неизменяемую правду. Вот почему возвращение к Пуссену есть всегда во французском искусстве возвращение к его врожденному существу. Вспомнив об этом, мы поймем, что значит возглас Коро перед луврской «Осенью» — «вот природа!», или заполнившее всю его жизнь желание Сезанна не просто воспроизвести Пуссена, не просто повторить его, а создать его заново из своего собственного зрительного опыта и во имя этого опыта, «refaire le Poussin sur la nature».
Чем глубже картина французского художника принадлежит французскому искусству, тем явственнее проступает в ней это сознательное или безотчетное воспоминание. Так было у Шардена, у Валансьена, у Коро, потом у Ренуара, у Сера, у Сезанна и после Сезанна, например у Брака или в пейзажах Дерена. Глядишь на картины этих мастеров и вспоминаешь картины другого мастера. То же спокойствие порождают они, ту же готовность приятия и ответа. Ни волнения, сбивающего с толку, ни восторга, мешающего видеть; зато — исчерпывающее доверие. Я смотрю, и мне есть, на что опереться, мое зрение, мое сознание удовлетворено; я констатирую, взвешиваю, измеряю, вкушаю одновременно и рассудочную и почти физическую полноту. Я чувствую, как в основе каждой вещи есть познавательное усилие, как бы нахождение координат, молчаливое вычисление и мера. Точно при помощи особого органа схвачено равновесие масс, их взаимное тяготение, наслоение скрытых пластов в пейзаже и в портрете. Не бурное восхищение переносит зрительный мир во всей его сложности на полотно; он завоевывается разборчиво и осторожно, он постепенно окружается, он сжимается тесным кольцом — уже не одно зрение участвует в этой осаде, но и оценка более глубоких чувств, — и только, когда ему нет выхода больше, с самой наглядной необходимостью и точностью он становится картиной. Познание здесь не цель, для которой картина (как в некоторых рисунках Леонардо или Дюрера) была бы только средством, но оно и не предшествует ей, как предварительная ступень, за которой последует работа фантазии и выбора. В самом познании уже заключается выбор. Уже в первый момент соприкосновения с природой только то познается в ней, чему предначертано стать картиной, и это с такой решительной безусловностью, как если бы мы увидели мир преображенным путем простой аккомодации зрачка. Задача кисти или карандаша только в том, чтобы ничего не прибавить к этой познанной, наконец, структуре (куда входят и красочные отношения) и ничего определяющего у нее не отнять. Импровизировать им не дано. Письмо не наделено самостоятельной душою; от него требуется лишь ясность выполнения. Живопись эта не бедна и не богата, не наивна и не виртуозна; она исчерпывает и только. И когда всё исполнено, когда последний ритм услышан, последнее равновесие найдено, тогда картина окончательно и беспощадно становится самой собой. Всё познанное впитано ею до последней капли. Видение исчерпано. По ту сторону не осталось ничего.