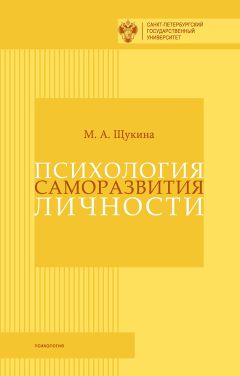Николай Скабаланович - Византийское государство и Церковь в XI в.: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина: В 2–х кн.
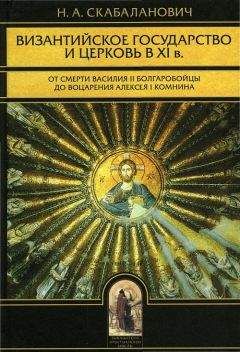
Помощь проекту
Византийское государство и Церковь в XI в.: От смерти Василия II Болгаробойцы до воцарения Алексея I Комнина: В 2–х кн. читать книгу онлайн
О размахе предпринятого исследования свидетельствует сам тематический охват монографии. Из ее 10 глав первые две содержат подробную информацию об императорском дворе, о придворных партиях, интригах, династических переворотах и т. д. Третья глава посвящена центральному управлению, в ней последовательно рассматриваются положение императорской власти, меры, предпринимаемые императорами для обеспечения прав на престол, участие народа в избрании императора, обрисованы придворный этикет и церемониал, культ императоров, анализируются организация и функции государственных учреждений. Следует заметить, что именно в этой главе Н. А. Скабаланович, отделив «чины от должностей»,[20] первым представил нам византийскую табель о рангах. В четвертой главе речь идет о областном управлении, анализируется организация фем, как округов военных, судебно–административных и податных, перечисляются все известные для данной эпохи фемы, суммируется информация источников о каждой из них. В пятой главе рассматриваются такие существенные вопросы социального и экономического строя византийского государства, как формы землевладения, податная система, отмечено большое влияние славянского элемента на социальный быт Византии, выразившееся в развитии свободного крестьянства и общинного землевладения. «Преобладающее значение в этом отношении, — по мнению ученого, — принадлежало славянскому племени, национальный гений которого играл в судьбах учреждений Восточной Римской империи роль аналогичную с той, какая в судьбах учреждений Западной Римской империи принадлежала гению германскому».[21] Далее в главе прослежено не только становление чиновной аристократии и двух категорий крестьянства: париков и общинников, но и происхождение, сущность и значение харистикарной и прониарной систем землевладения. Шестая глава посвящена вопросам организации податной системы, в ней рассматриваются разного рода платежи и повинности, способы сбора податей, а также важнейшие статьи государственных расходов.
«Византийская податная система своей организацией ясно доказывает, — по утверждению историка, — что она составляет прямое наследие податной системы императорского Рима. В частностях обнаруживаются однако же черты, отличающие ее от этой последней, — замечается отличие в постановке бюджетного периода, в том значении, какое получили основные подати, и в том развитии, какое сообщено податям второстепенным и дополнительным»;[22] седьмая — описанию военного и морского дела, восьмая суду, в девятой главе обобщены сведения о положении Константинопольской патриархии, о синоде, церковной иерархии, большое место уделено освещению союза Церкви и государства. Н. А. Скабаланович считал, что «…знакомство с византийским государством не будет полно до тех пор, пока параллельно не изучена будет жизнь Церкви. Союз государства и Церкви в Византии простирался, — по его мнению, — даже слишком далеко».[23] В 10–й главе речь идет о политических, экономических и религиозных причинах роста монастырей, содержатся сведения о новооснованных монастырях и монастырских уставах, дается характеристика монашествующих, описывается влияние монашества на византийское общество и государство.
Столь многогранная тема докторской диссертации Н. А. Скабалановича была очень мало разработана в литературе. Ее всестороннему освещению мешала прежде всего нехватка источников. Н. А. Скабаланович проделал огромную работу по разысканию источников, имеющих отношение к XI в. Он впервые ввел в научный оборот многие византийские, западные и восточные письменные памятники.[24]
Свое понимание принципов работы с источниками историк изложил во введении к монографии. Скабаланович считал, что тщательный анализ источников — существенно необходимое условие для научной разработки исторического материала. Критическая оценка самого источника, по мнению исследователя, должна включать следующие элементы: определение места и времени его возникновения, личности автора памятника, выяснение отношения данного памятника к другим, современным ему или однородным, анализ происхождения сведений, содержащихся в нем, выявление сравнительной ценности этих сведений.[25]
Важно отметить, что эта отнюдь не простая источниковедческая программа не оставалась лишь декларацией. В значительной мере она была реализована.
Как отметил П. В. Безобразов в своей рецензии на монографию, большая заслуга Н. А. Скабалановича в области источниковедения состояла в том, что «он первый у нас воспользовался неоднократными намеками В. Г. Васильевского и провел резкую грань между первоисточниками и компиляторами»,[26] указав на то, что они неравнозначны по своему значению. Первоисточники, утверждал ученый, имеют наибольшую ценность, ибо в них сведения исходят от современников, очевидцев. Источники же вторичного характера (по П. В. Безобразову — компиляторы) подобной ценности по отношению к заимствованной части не имеют, исключая случаи, когда они дополняют ее новыми подробностями или когда за утратой первоисточников им «по необходимости приходится отводить место, принадлежащее последним».[27] Ученый показал, трудами каких писателей пользовались Михаил Глика, Иоанн Зонара и др. Н. А. Скабаланович не принимал на веру то, что было до него сказано историками Византии. Он старался критически пересмотреть все сведения о события и людях с тем, чтобы после тщательной проверки, на основе совокупности всех источников и литературы предпринять собственную реконструкцию происходившего. Его труд содержит массу фактов, добытых ученым из самых разнохарактерных источников и прошедших самую придирчивую экспертизу. Особенно критический талант автора диссертации проявился в вопросах хронологии. Н. А. Скабаланович стремился не оставить необследованной ни одной даты, и, как писал проф. И. Е. Троицкий, «в этой сфере автор заявил себя с наилучшей стороны и оказал науке большие услуги».[28] Его критические замечания относительно письменных памятников, по нашему мнению, и сейчас представляют несомненную научную ценность для исследователей, занимающихся византийской историей XI в.
В монографии творческая манера Н. А. Скабалановича сполна проявила себя. С самого начала своего профессионального пути ученый придерживался принципа, который будет им ярко сформулирован в речи «Научная разработка византийской истории XI в.», произнесенной на публичной защите диссертации на степень доктора богословия: «Историю принято называть учительницею народов, и если от какой науки и требуют практических уроков, то от истории. Может быть, в этом смысле предъявлено будет требование к моему труду. В ответ на это я прежде всего должен заявить, что не допускаю тенденциозности в серьезной исторической науке; история должна отличаться полным объективизмом и стремиться лишь к раскрытию исторической правды. Практические положения сами собой получатся и будут тем убедительнее, чем объективнее исследование».[29] Этот принцип пронизывает все творческое наследие ученого.
Кропотливое собирание и сопоставление фактов, углубленные источниковедческие разыскания не означают, что Н. А. Скабаланович был глух к тем животрепещущим проблемам, которые волновали научные круги и все общество пореформенной России. Показателен в этом смысле и авторский отбор объектов исследования, и подход к ним. Так, общеизвестно, какое место в жизни страны занимал в XIX в. аграрный вопрос, и как это обстоятельство по–своему преломилось в пристальном внимании В. Г. Васильевского, Ф. И. Успенского и ряда других, так сказать, «светских византинистов» к аграрной истории Византии, к положению ее крестьянства, к роли и судьбам общины…[30] Отсюда же, можно думать, проистекал и глубокий интерес Н. А. Скабалановича к вопросам аграрной истории, которым он в своей монографии уделил немалое внимание.
Следует напомнить, что в русской историографии традиционно уделялось значительное внимание и проблемам развития византийской государственности. Здесь прослеживаются тенденции, идущие от государственной школы с ее откровенной идеализацией государственной власти и взгляда на монархию как двигателя исторического развития. Свою леп — " ту внесли и теория официальной народности, идеи теории славянофильства.[31] Особенно остро эти проблемы вставали, когда речь заходила об осмыслении русскими учеными преемственности форм отечественной государственности от государственности византийской, о проблеме «византийского наследства». Отечественные византинисты уделяли этой теме огромное внимание, они изучали функционирование и сущность византийских государственных институтов, их особенности с целью уяснить своеобразие развития самой Византии и в широком смысле — византийского общества.[32] Естественная для нашей науки ориентация на интересы русской истории, на выявление роли и влияния «византийского наследия» с необходимостью повлекла за собой обращение и к истории собственно Византийской церкви в ее неразрывной связи с жизнью византийского общества и государства.[33] В ходе разработки проблематики, связанной с историей отношений Церкви и государства в Византийской империи, сформировалась концепция так называемой «византийской симфонии», «диархии» или «двуединства» светской и духовной власти в Византии. Исключительная ценность для русского богословия и светской византинистики конца XIX — начала XX в. этой концепции заключалась в том, что она противостояла концепции цеза–ропапизма, преобладавшей в то время на Западе, противостояла не на уровне декларации, а доказательно, представлением материала первоисточников, причем на основе объективного их анализа. Ее основоположником являлся Ф. А. Курганов (1844–1920), проф. Казанской Духовной академии.[34] Сконцентрировав внимание на раннем периоде византийской истории, на IV–VI вв., он заложил основы того нового направления в изучении общей истории Церкви, развитие которого шло в общем русле отечественной научной византинистики.