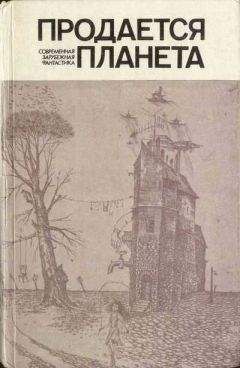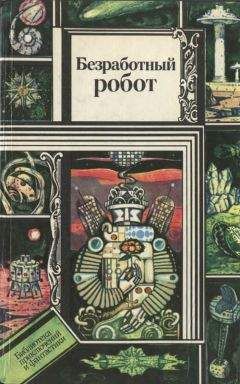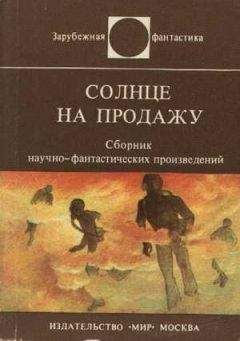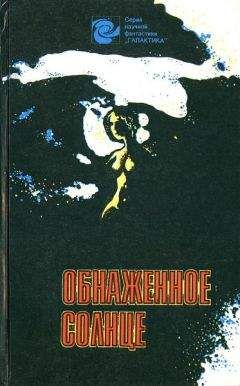Иоанн Мейендорф - Иисус Христос в восточном православном предании

Помощь проекту
Иисус Христос в восточном православном предании читать книгу онлайн
Только благодаря персонализму святоотеческого богословия стало возможным преодолеть существенную дилемму, поставленную иконоборческим спором, и обеспечить твердое основание для иконопочитания.
Однако ипостасное единство подразумевает communicatio idiomatum, и, следовательно, обоженный характер изображаемого человечества Христа. Но в то же время, воплощаясь, Слово воспринимает падшее естество ради его спасения: «Он не обладал плотию, отличной от нашей собственной, падшей вследствие греха; [восприняв], Он не преобразил ее, но имел то же самое естество, что и мы, однако без греха; и в этом естестве Он осудил грех и смерть».
В своей полемике против оригенистской идеи упразднения тела, содержащейся в письме Евсевия к Констанции, Никифор утверждает, что, даже прославленное, Тело Христа остается истинно человеческим, а значит, оно описуемо. Прикосновение к Божеству, участие в божественной жизни не разрушает человеческую природу, но возвращает ее в первозданное, то есть совершенно «естественное» состояние. Он пишет: «Нетлению свойственно не портить и разрушать, но сохранять, спасать, делать лучшим и навеки неизменным».
Значит, преображенное и обоженное после смерти и воскресения Тело Христа Само сделалось источником обожения; таким образом, изображение воплощенного Слова понималось в православном богословии VIII века как свидетельство об обоженной человеческой природе Иисуса Христа, центральном сотериологическом понятии в богословии ранних Отцов. Если эта человеческая природа «неописуема», как утверждают иконоборцы, то она и недоступна, а следовательно, спасение нашего человеческого естества не осуществилось. «Я поклоняюсь Богу», — пишет преп. Иоанн Дамаскин, но также и «порфире Тела [Христова], не только как одеянию, и не как четвертому лицу [Троицы], но в силу того, что оно было создано богоподобным (omoqeon) и стало неизменно единым с полученным им помазанием». Почитаемый христианами образ Христа свидетельствует о реальности Евхаристии. «Ангелы, — пишет Иоанн Дамаскин, — не причастны божественному естеству, но только энергии и благодати, человеки же участвуют в нем, они находятся в общении с божественной природой, по крайней мере те, которые причащаются святому Телу Христову и приемлют Его Кровь, поскольку Тело и Кровь Христовы ипостасно соединены с Божеством, и в Теле Его, которому мы причащаемся, — две природы, нераздельно соединенных в единой Ипостаси. Тем самым, мы пребываем в общении с обеими природами — с плотью, телесно, и с Божеством, духовно, или же с обеими обоими способами — без всякого отождествления нашей ипостаси с Ипостасью Христа, ибо мы сначала получаем в порядке творения ипостась, и только затем вступаем в единение через смешение (kata sunanakrasin) Тела и Крови.
Понятие Тела Христова, обоженного, но в то же время исторического и описуемого, отождествляется, таким образом, с Церковью, сообществом верных. Отсюда берет начало аргументация Феодора Студита: «Если Христос по воскресении неописуем, то и мы, образующие с Ним Единое Тело (susswmos autw, см. Еф. 3:6), становимся неописуемыми». Или же, если этого с нами не происходит, «мы перестали быть членами Тела Христова». Евхаристия является для нас спасением именно потому, что она есть «Тело» и «Человечество»: «Мы исповедуем, — пишет Никифор, — что через призывание священника и нисхождение Пресвятого Духа Тело и Кровь Христовы таинственно и невидимо становятся реально присутствующими…», и спасение заключается не «в том, что Тело перестает быть Телом, но в том, что Оно остается таковым и сохраняется как Тело».
Итак, становится ясным истинное богословское значение иконоборческого спора: изображение Христа есть видимое и необходимое свидетельство реальности Христова человечества. Если такое свидетельство невозможно, то сама Евхаристия теряет свою реальность. Теоретическое обоснование византийского иконостаса, видимым образом являющего «для внешних» сущность совершаемого в алтаре таинства, несомненно, зародилось в свете вышеизложенного богословия.
Это богословие придает иконописи значение своего рода священнодействия. Св. Феодор Студит уподобляет христианских живописцев Самому Богу, создающему человека по Своему образу: «То, что человек был сотворен по образу и подобию Божию, показывает, что иконописание есть божественное делание».
Живописец, подобно Богу в начале, создавая образ Христа, творит «Образ Божий», изображая обоженное человечество Иисуса, воипостазированного в Самом Слове. Согласно Иоанну Дамаскину, иконописец свидетельствует тем самым, что «вещество есть Божие творение, и исповедует, что оно добро», что оно уже несет в себе не смерть, а жизнь: «С того времени, как Божество соединилось с нашей природой, естество наше было прославлено как бы посредством некоторого жизнетворного и благополезного лекарства и получило доступ к нетлению: по этой причине и кончина святых празднуется, и храмы возводятся в их честь, и изображения их создаются и почитаются…».
То воодушевление, с которым святой Иоанн Дамаскин говорит о «почитании вещества» (thn ulhn sebw), было несколько умерено преп. Феодором Студитом, хорошо сознававшим опасность фетишизма, в который вырождались некоторые формы иконопочитания. Соглашаясь, что почитание книги Евангелия или вещественных изображений подразумевает «возвышение вещества, поскольку оно возводит ум к Богу», он неоднократно отмечал, что не сущности вещественного образа воздается поклонение, но изображению Первообраза, на нем представленного… поэтому не вещество является объектом поклонения». Представляется, что богословие образа сохраняет у Феодора более выраженный неоплатонический характер, чем у Иоанна Дамаскина. Во всяком случае, как мы видели, средоточием мысли св. Феодора является личностный аспект образа. Встреча с Ипостасью Слова — истинная цель иконопочитания, и эта встреча может и должна происходить при посредстве материального образа, свидетельствующего об исторической реальности Воплощения и об обожении, через которое наша человеческая природа прославлена во Христе.
Богословие иконоборческой эпохи, к которому историки догматов относятся довольно пренебрежительно и которое часто плохо понимают, оказало огромное влияние на развитие вероучения и духовную жизнь последующих эпох. В лице свв. Иоанна Дамаскина, Феодора Студита и патриарха Никифора христология Византийской Церкви нашла замечательных свидетелей, которые сумели перед лицом очевидных монофизитских настроений иконоборцев выразить во всей полноте значение человечества Христова, как это уже сделал в VII веке преп. Максим, не отвергая главной интуиции сотериологии св. Кирилла Александрийского, основанной на понятии обожения. То значение, которое в православном богословии образа некоторые, подобно Феодору Студиту, придавали учению об ипостасном единстве, показывает, что развитие византийской христологической мысли с пятого по восьмой век представляет собой единое неразрывное целое. Внутренняя логика византийской христологии позволила не только сохранить чистоту вероучения, но и вдохновила поколения иконописцев, создателей великих шедевров религиозного искусства Византии. Это искусство является не только величайшим достижением эстетического порядка, но, говоря словами русского философа XX столетия, представляет собой «умозрение в красках».
Христология в поздней Византии
С XI до XV века христологическая проблема никогда не была чуждой византийскому богословию. Поскольку «Торжество Православия» 843 года понималось многими как своего рода окончательное утверждение догматов, никакое оспаривание принятых семью Соборами формулировок не могло иметь места. В школах свод преп. Иоанна Дамаскина использовали в качестве учебника, и никакие новые категории в богословие не вводились. Такой формальный консерватизм в значительной степени преобладал с IX века как в правящих кругах, так и среди иерархии вплоть до великого богословского кризиса XIV столетия.
Тем не менее, за этим фасадом просматривается движение идей. Интерес византийских гуманистов к древнегреческой философии дал возможность некоторым одаренным умам, не удовлетворенным готовыми ответами школьного богословия, предлагать новые решения вопросов бытия. Возрождение неоплатонизма в XI столетии, связанное с именами Михаила Пселла и Иоанна Итала, напоминало оригенистский кризис VI века. Кроме того, в самом школьном богословии временами вспыхивали споры, которые заставляли официальную Церковь высказываться относительно богословских проблем. Ниже мы рассмотрим, к каким результатам привели эпизоды подобного рода (непосредственно связанные с христологией) в эпоху Алексея и Мануила Комнинах. Наконец, в монашеских кругах великое течение святоотеческой духовности не только продолжало приносить плоды святости, но и ставило богословские проблемы, касающиеся спасения, которые лежали в основе христологических споров предшествующих веков.