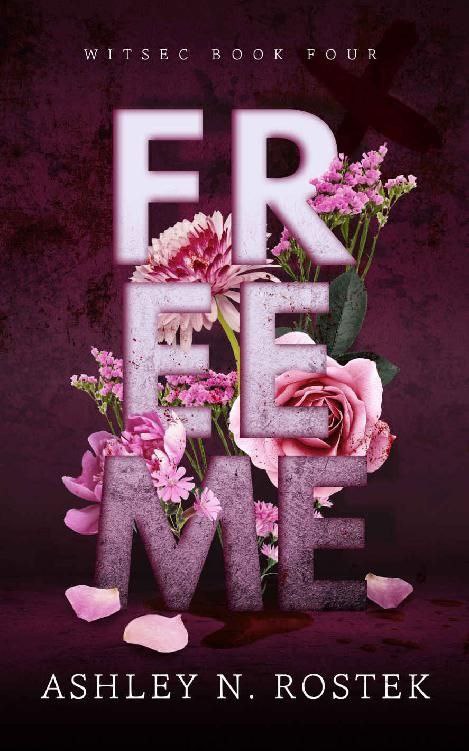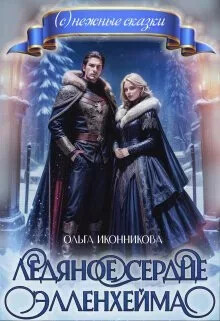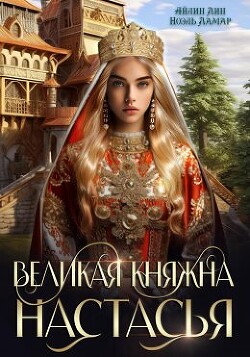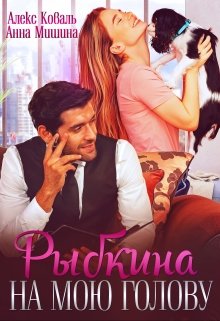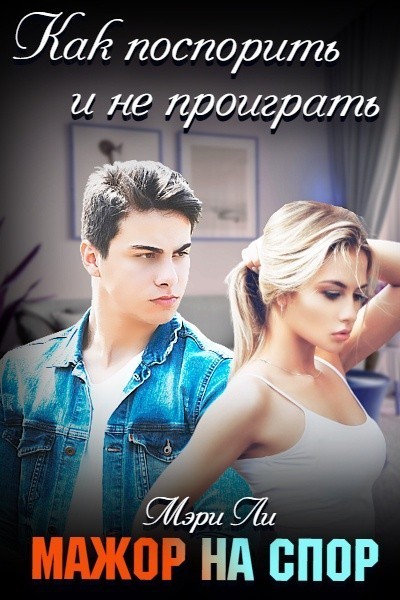Юлия Кристева - Смерть в Византии
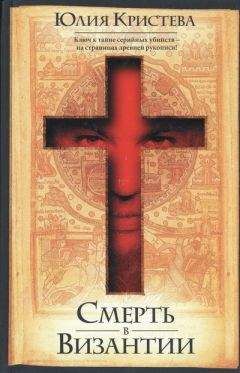
Помощь проекту
Смерть в Византии читать книгу онлайн
— Ложись! Ложись! — Попов сбил меня с ног и повалил на землю между такси и соседним «фордом», за которым, видимо, он устроил свой наблюдательный пункт.
Как раз вовремя, поскольку прогремела новая очередь выстрелов, только теперь в другом конце паркинга, и две машины сорвались с места.
— Пусть их, сводят свои счеты, нам же лучше отсюда убраться. — Доблестный помощник Рильски облегченно вздохнул и потащил меня к полицейской машине.
Мы без сожалений покинули место преступления.
— В такси ее и мигом ко мне! Меняем диспозицию! Времени нет! Стефани, дождитесь меня в моем кабинете! — рявкнул Рильски на сотовый телефон Попова несколькими минутами позже.
Тот высадил меня на остановке такси, нажал на акселератор, включил полицейскую сирену и был таков.
Себастьян Крест-Джонс, кто он: переселенец, пернатый хищник или дикий зверь?
Самолет взмыл в небо, взяв курс на Стони-Брук, где Себастьяну Крест-Джонсу предстояло получить ученое звание доктора honoris causa[2] в качестве вознаграждения за труды по метизации народов, которым он отдал два десятка лет на кафедре истории миграций. При этом он тщательно скрывал от всех — по крайней мере был в том уверен — свои изыскания о Первом крестовом походе и Византии, поскольку эта страсть личного свойства имела опосредованное отношение к его официальной теме. Только ассистент знал о хобби профессора, или «его пороке», как выражался молодой честолюбец.
Скромная кафедра университета Санта-Барбары занималась изучением истории нации с целью прояснить известные и вместе с тем столь неясные составные melting-pot[3] и, сама того не подозревая, устремила помыслы в русло еще более туманных изысканий не обеспеченных, кстати сказать, никакими грантами. Изыскания приносили удовлетворение как глубоко депрессивной натуре профессора (он считал это своей врожденной чертой), так и его тщеславию интеллектуала в первом поколении. Так было до тех пор, пока университет Стони-Брука, Бог его знает, по какой причине, не решил увенчать его заслуги званием, казавшимся ему трогательно-смешным.
Фоккер «F-27 Фрэндшип» — один из тех турбовинтовых самолетов, которые берут на борт не более двадцати восьми пассажиров и напоминают о Первой мировой, — неизменно наводил страх на неофитов, попадал ли день вылета на 11 сентября или на любой другой день. Однако он весьма благополучно преодолел дистанцию в триста миль, разделяющих два города. Лауреат без всяких колебаний согласился совершить этот перелет за счет приглашающей стороны, а не тащиться туда на собственном автомобиле: обстоятельства предполагали определенную торжественность и соответствующий антураж, и даже его столь разрушительная по своей сути натура чутко это уловила.
Пролетая на небольшой высоте над долиной, расчерченной аккуратными геометрическими фигурами полей и промышленных комплексов, и не испытывая того безмерного равнодушия ко всему земному, что, как правило, присуще пассажирам «Боинга-747» или аэробуса «А300», Себастьян Крест-Джонс вдруг отдал себе отчет в том, что полет был единственным сродственным ему, если не сказать органичным, состоянием. И дело тут было вовсе не в свободе, удаленности от всех и вся и невозможности достать его кому бы то ни было, как и не в том, что он оказывался «над схваткой» — так подумал бы на его месте любой мегаломан, — нет, тут было другое. Историка посетило некое прозрение, явно связанное с грядущим событием, в результате которого ему предстояло прославиться в интеллектуальной среде.
Сидя в «фоккере». славящемся стабильностью в ходе военных действий, хотя и маломощном и чуть ли не доисторическом, Себастьян Крест-Джонс осознал: то, что он считал своей предрасположенностью к несчастью, или — как по-научному именовала это его жена Эрмина, натура жизнерадостная, безнадежно поверхностная и обольстительная, — патологической склонностью к нигилизму, было не чем иным, как консубстанциальной странностью. Между небом и землей, в турбовинтовом гуле летательного аппарата — германская надежность вкупе с голландской домашностью, — потягивая «кока-колу-лайт», поданную неулыбчивой бортпроводницей, он наконец осознал, кто он. Переселенец. Мигрант. И если однажды ему предстояло, согласно буддистской вере, в кого-либо перевоплотиться, это непременно будет птица. А пока он с безмятежной радостью, которую можно было назвать чуть ли не мистическим экстазом, погрузился в глубоко затаенную область своего существа — «транзитную зону», предался обуревающей его охоте к перемене мест и даже отдохнул.
Уж сколько раз доводилось ему испытывать смятение перед собственным сродством с неким иным миром, в чем невозможно никому признаться. Да, так оно и есть: он не от мира сего. Вот и накануне, поднимаясь по лестнице на шестой этаж, чтобы слегка размяться, в то время как Эрмина, предпочтя лифт, уже сидела за туалетным столиком, он был загипнотизирован видом своих ног, обутых в туфли и ступающих по красному с голубыми разводами ковру. Что это был за ковер, что за ноги? И где? Кто-то поднимался по лестнице в том измерении, которое не было ни здешним, ни нынешним. Этот кто-то не имел отношения ни к этому ковру, ни к этим туфлям. Но кто он? Откуда и куда держал путь?
Себастьян был уверен: объявшее его сладостное и тревожное головокружение не вызвано ни шампанским, ни вином, которого он пригубил за обедом (впрочем, в весьма умеренных дозах), ни даже раздражением и насмешкой, которые вызывали в нем с некоторых пор телодвижения его жены на дружеских вечеринках. С самого начала совместной жизни Эрмина обзавелась привычкой сетовать на то, что муж ее не слышит, с ней не разговаривает, не делится, а «отсутствие взаимного общения» — самое садистское оскорбление, которое только можно нанести женщине (уточняла она). Это вынудило ее занести любовника (о чем она умолчала, будучи уверенной, что он не в курсе). Этот примат Пино Минальди, ассистент Себастьяна, в прямом и переносном смысле обращался с ней грубо, однако она поведала Этель Панков — а поскольку все тайное в конце концов становится явным, то и до Себастьяна дошли эти излияния, — что лучше, когда с тобой обращаются как со скотиной, чем вообще никак. Ведь по большому счету ссора — это разновидность дискуссии, которая, в свою очередь, является одной из неотъемлемых составляющих широкого поля беседы. Умение вести беседу и впрямь было сильной стороной Себастьяна. Чего не скажешь о самой Эрмине: от доброй перебранки она испытывала кайф, как от дозы наркотиков, что проявлялось в бешеном хохоте и полной раскованности.
Для нее ужины у четы Панков или где-то еще, как и сам Пино Мннальди, были лишь случаем почесать свой сексуальный орган — язык, предаться оральной мастурбации, впасть в эпилептический припадок, единственно допустимый в обществе, зайдясь в неутомимом, экзальтированном многоглаголении. Себастьян спокойно пережидал нападавшие на нее приступы словопохотливости, похожие на смерч. С каких пор он перестал видеть ее худое крепкое тело, едва прикрытое платьем из тонкого черного шелка, угловатые и дразнящие жесты, ее лицо с выбивающейся светлой прядкой на лбу? Что ему оставалось делать со своим омертвевшим органом слуха перед лицом этого урагана спазмов, состоящего то ли из звуков, то ли из плоти, кроме как держаться на расстоянии, улыбаться и не питать иллюзий? В общем, взять на себя роль мудрейшего, что, как известно, труднее всего дается сегодняшним мужчинам.
Накануне Эрмина блистала, что для Себастьяна являлось знаком — не за горами одна из его «транзитных зон», в которых царил его собственный ум. С места в карьер она поведала о последнем hold-up,[4] о котором услышала по телевизору и который напомнил ей о случившемся с нею в детстве: «Маски на лицах, автоматы в руках, сумки для казначейских билетов, приказ лечь на землю, мама, закрывающая меня своим телом, представьте, я чуть не задохнулась, все застыло словно на картинке, прибывшие с опозданием полицейские принялись опрашивать свидетелей, вместо того чтобы преследовать нарушителей, а те смылись, поминай как звали». И дальше: «Кстати (Себастьян не без труда воспринял это „кстати“ после „смылись“), знаете анекдот?.. Нет? Так вот: один молодой человек сбежал из дому, а его мать — типичная еврейская мамаша — звонит на вокзал: „Алло, вокзал? Мой мальчик приехал?“ (Тут Эрмина не выдержала и зашлась в хохоте, лицо ее стало малиновым.) Естественно, на вокзале должны были знать ее любимое чадо в лицо, как и то, куда оно направляется и во сколько прибудет на место! Тогда как сынок просто-напросто смылся. Подобные мамаши — настоящее гетто! Так что его можно понять. Ха-ха-ха!» Чета Панков явно не уразумела, что общего между этими двумя историями, но какое это имело значение? Этель как настоящая еврейская мама не только не оскорбилась бестактностью гостьи, которую за глаза звала «неосознанной дурой», но и выслушала ее с некоторой благожелательностью. Если только это не объяснялось усталостью. Уж кому, как не ей — женщине и психоаналитику, — было знать, что вербальный оргазм фригидной истерички неизлечим, потому она и взирала на нее насмешливо и умиленно.