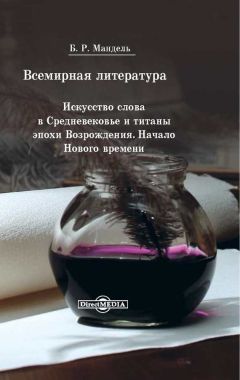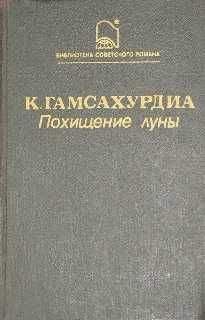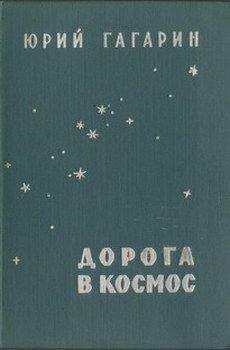Борис Мандель - Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980
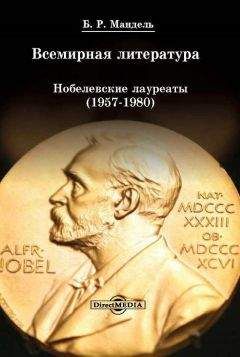
Помощь проекту
Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980 читать книгу онлайн
Жизнь в эмиграции была мучительно тяжелой. Как сказал Милош, отрываясь от родной земли и языка, поэтического источника и импульса, он обрек себя на «бесплодие и бездействие». Будучи первое время не в силах писать стихи, Милош в 1955 году выпустил роман «Долина Иссы» («Dolina Issy»), воспоминание о детстве в Литве, элегическое повествование «Захват власти» («Zdobycie Wladzy», 1953) – прозаическая аналогия «Порабощенного разума». За эту книгу поэт получает Европейскую литературную премию. После награды Милош, как он сам выразился, мог бы «нажать на газ и печататься не переставая».
Сборник эссе Ч.Милоша
Однако поэт не мог примириться с позицией французских «левых» интеллектуалов, которые по– прежнему считали, что советский коммунизм спасет мир, и не видели его сущности, и в 1960 году переезжает в Соединенные Штаты. Уже через год Милош становится профессором славистики Калифорнийского университета в Беркли, а в 1970 году получает американское гражданство.
Опасения Милоша, что он не сможет писать в эмиграции, не подтвердились. За годы, прожитые в Америке, выходят его переводы с польского, польские переводы из Библии (псалмы), переводы произведений Уитмена, Шекспира, Мильтона, Т.С. Элиота, Бодлера на польский, а также получившие высокую оценку произведения автобиографического и литературоведческого характера, эссе и стихи. И поразительные слова об изгнании…
Сборник писем Ч.Милоша, изданный на родине
Ритм – самая основа человеческой жизни. Прежде всего, это ритм тела, послушного биению сердца и круговороту крови. А поскольку живешь в мире пульсирующем, колеблющемся, то и он тобой правит, тоже навязывая свой ритм. Даже не обращая внимания на систолы и диастолы убегающего времени, проходишь через восходы и закаты солнца, через смену времен года. Повторение позволяет привыкнуть к миру, считать его хорошо известным. И может быть, потребность в рутине коренится в самом устройстве нашего тела.
В городе или деревне, которые знаешь с детских лет, движешься в освоенном пространстве и, что бы ни делал, всюду натыкаешься на привычные вехи. А очутившись в незнакомом месте, чувствуешь посреди этого ничем не ограниченного простора тревогу, что-то похожее на опасность. Вокруг столько нового, но оно неуловимо, ведь от тебя скрыты начала, которые его упорядочивают. Говоря это, я просто-напросто обобщаю собственные переживания. И все-таки надеюсь, что меня поймут: слишком многие, особенно в нашем столетии, переживали то же самое.
Изо всех бед изгнания тревога перед неизвестностью – пожалуй, самая мучительная. Всякий, кто оказывался в огромном чужом городе, не мог не испытывать своего рода зависть к его обитателям, которые заняты привычными делами, уверенно снуют среди контор и лавок и в полном ладу друг с другом ткут бесконечную пряжу своих ежедневных хлопот. Чтобы приглушить это ощущение чуждости, заброшенный извне наблюдатель рано или поздно изобретает особую стратегию. Живя в Париже, я долгое время ограничивал свои вылазки несколькими улочками Латинского квартала, чтобы обзавестись пространством, о котором можно сказать «мое». Ресторан на углу, книжный магазинчик, прачечная, кафе следовали во время ежедневных прогулок друг за другом и навевали этакую беззаботность, ведь все окружающее я давно уже знал наизусть.
Потеряться в незнакомом городе… Может быть, не об одной потере дороги тут речь. Как-то раз в том же Париже, городе многих моих счастливых минут и не меньших бед, мне случилось выйти из метро в не очень знакомом месте. Я шел по улице и вдруг понял, что ничего здесь не знаю, что мне не с чем свериться. На меня напал страх пространства. Дома закружились, зашатались. Я утратил ориентировку. И только тогда осознал, что за моей неуверенностью, по какой из улиц двигаться дальше, стоит потеря ориентиров в другом, куда более глубоком смысле слова. Изгнание лишает нас системы координат, которые помогают строить планы, ставить цели, приводить в порядок дела. У себя дома каждый связан со своими предшественниками: писателями, если он писатель, художниками, если художник, и т.п., – связан восхищением либо противоборством. Нами движет желание сравняться с ними, так или иначе их превзойти, чтобы прибавить свое имя к именам, уважаемым в нашей деревне, городе, стране. А тут, за рубежом, ничего этого нет, мы выброшены из истории, ведь у каждого она – своя, и связана она с его особым местом на карте. И наш долг – всеми силами противостоять подобной, выражаясь словами писателя-эмигранта, «невыносимой легкости бытия».
В себя приходишь медленно и всегда не до конца. Какое-то время еще не хочешь сознаваться, что переехал насовсем и уже никакие политические или экономические сдвиги в твоих родных краях не заставят тебя вернуться. Однако постепенно начинаешь понимать, что изгнание – не просто переезд через границу, что оно зреет в тебе самом, меняет тебя изнутри и становится твоей судьбой. Единая масса человеческих лиц, мостовых, монументов, перемен моды и обихода обретает четкий рисунок, чужое понемногу перерождается в свое. Но топографию твоего прошлого память все-таки хранит, и из-за этой двойной принадлежности ты никогда не станешь таким же, как твои новые соотечественники.
«Уходя из родных краев, не оглядывайся, а то попадешь в лапы Эриний». Пифагорейское правило звучит хорошо, только вот следовать ему непросто. Это верно, Эринии – у тебя за спиной, и один вид их способен парализовать смертного. По одним легендам, они – дочери Земли, по другим – Ночи. Но как бы там ни было, они являются из глубин подземного мира, и за плечами у них крылья, а на голове клубятся змеи. Они – воплощенная кара за твои прежние грехи, и тебе, как ты прекрасно знаешь, никакими силами не убедить себя в собственной невиновности, а уж помнишь ли ты, где оступился, или нет – не важно. Посему лучшая защита от них – не оглядываться. Но не оглядываться невозможно, ведь там, в краю твоих предков, твоего языка, твоих родных и близких, осталось то, что в тысячу раз дороже любых богатств, измеряемых деньгами: краски, образы, интонации речи, строй архитектуры, – все, что в детстве сделало нас такими, какие мы есть. И мы не в силах помешать нашей памяти говорить, мы снова и снова будим прошлое и этим навлекаем на себя Эриний. Но человека без памяти вряд ли можно считать человеком: его человеческая природа искалечена. Так в нас возникает раскол, и надо научиться с ним жить.
Но есть особая разновидность изгнания, в которой видят удел двадцатого века. Самый известный из прежде изгнанных поэтов, Данте, покинув свою Флоренцию, скитался всю остальную жизнь из города в город, но ни один из них сегодня не лежит «за рубежом», все они – в Италии. Данте похоронен в Равенне, которая нам теперь не кажется такой уж отдаленной от его родных мест. Или по мере вращения Земли расстояния, а с ними и различия между разными странами, будут только сокращаться? Может, на странствия нынешних пилигримов стоило бы уже смотреть как на переезды из города в город в пределах одной страны, как ее ни называй – Европой, континентом, миром? Даже если такое время еще не пришло, явный сдвиг в эту сторону есть, и связан он с развитием техники.
Кроме того, двадцатый век, как и подобает эпохе демографического взрыва, несет с собой количественные перемены. Во времена Данте число людей, покидавших родные города и села, было ничтожно. Сегодня сотни тысяч и даже миллионы людей, согнанных с насиженных мест войнами, экономическим гнетом, политическими преследованиями, покидают родные края, и эмигрант – к примеру, писатель, художник, интеллектуал, оставивший свою страну по тем или иным, скажем так, тонким мотивам, гонимый не только угрозой голода или страхом перед полицией, – не может думать о своей судьбе в отрыве от судьбы этих масс. Их кочевое существование, трущобы, где они чаще всего ютятся, пустыни неприветливых улиц, на которых играют их дети, – это, в каком-то смысле, и его участь. Он чувствует с ними солидарность и спрашивает себя: может быть, изгнание – все более универсальный образ человеческого удела?
Воспоминания и дневники Ч.Милоша
Ведь жизнь в изгнании сегодня уже не сводится к переезду из одной страны в другую. Промышленные центры выманивают людей из их мирных, но обнищавших сельских провинций, новые города встают там, где еще вчера пасли скот, вокруг столиц расползаются бараки и хижины. Пытаясь передать неопределенность и смутную опасность чужбины, понимаешь, до какой степени все, о чем ты думал, можно отнести и к новым обитателям городов, даже если они приехали сюда и не из другой страны. Отчуждение сегодня – не болезнь какой-то отдельной категории людей, а удел многих и многих, так что у эмигранта, если вдуматься, нет причин особенно горевать о своей судьбе.