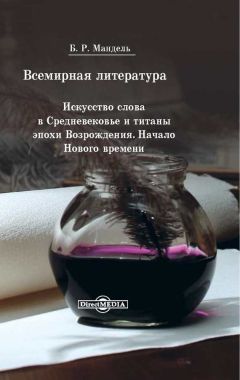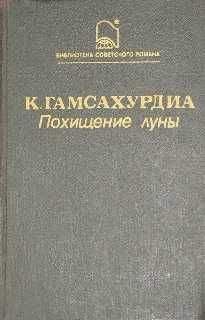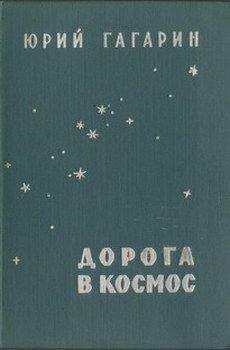Борис Мандель - Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980
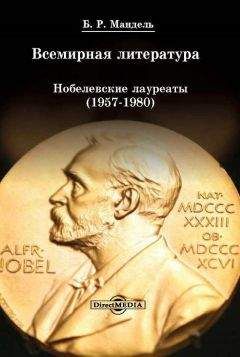
Помощь проекту
Всемирная литература: Нобелевские лауреаты 1957-1980 читать книгу онлайн
«Уходя из родных краев, не оглядывайся, а то попадешь в лапы Эриний». Пифагорейское правило звучит хорошо, только вот следовать ему непросто. Это верно, Эринии – у тебя за спиной, и один вид их способен парализовать смертного. По одним легендам, они – дочери Земли, по другим – Ночи. Но как бы там ни было, они являются из глубин подземного мира, и за плечами у них крылья, а на голове клубятся змеи. Они – воплощенная кара за твои прежние грехи, и тебе, как ты прекрасно знаешь, никакими силами не убедить себя в собственной невиновности, а уж помнишь ли ты, где оступился, или нет – не важно. Посему лучшая защита от них – не оглядываться. Но не оглядываться невозможно, ведь там, в краю твоих предков, твоего языка, твоих родных и близких, осталось то, что в тысячу раз дороже любых богатств, измеряемых деньгами: краски, образы, интонации речи, строй архитектуры, – все, что в детстве сделало нас такими, какие мы есть. И мы не в силах помешать нашей памяти говорить, мы снова и снова будим прошлое и этим навлекаем на себя Эриний. Но человека без памяти вряд ли можно считать человеком: его человеческая природа искалечена. Так в нас возникает раскол, и надо научиться с ним жить.
Но есть особая разновидность изгнания, в которой видят удел двадцатого века. Самый известный из прежде изгнанных поэтов, Данте, покинув свою Флоренцию, скитался всю остальную жизнь из города в город, но ни один из них сегодня не лежит «за рубежом», все они – в Италии. Данте похоронен в Равенне, которая нам теперь не кажется такой уж отдаленной от его родных мест. Или по мере вращения Земли расстояния, а с ними и различия между разными странами, будут только сокращаться? Может, на странствия нынешних пилигримов стоило бы уже смотреть как на переезды из города в город в пределах одной страны, как ее ни называй – Европой, континентом, миром? Даже если такое время еще не пришло, явный сдвиг в эту сторону есть, и связан он с развитием техники.
Кроме того, двадцатый век, как и подобает эпохе демографического взрыва, несет с собой количественные перемены. Во времена Данте число людей, покидавших родные города и села, было ничтожно. Сегодня сотни тысяч и даже миллионы людей, согнанных с насиженных мест войнами, экономическим гнетом, политическими преследованиями, покидают родные края, и эмигрант – к примеру, писатель, художник, интеллектуал, оставивший свою страну по тем или иным, скажем так, тонким мотивам, гонимый не только угрозой голода или страхом перед полицией, – не может думать о своей судьбе в отрыве от судьбы этих масс. Их кочевое существование, трущобы, где они чаще всего ютятся, пустыни неприветливых улиц, на которых играют их дети, – это, в каком-то смысле, и его участь. Он чувствует с ними солидарность и спрашивает себя: может быть, изгнание – все более универсальный образ человеческого удела?
Воспоминания и дневники Ч.Милоша
Ведь жизнь в изгнании сегодня уже не сводится к переезду из одной страны в другую. Промышленные центры выманивают людей из их мирных, но обнищавших сельских провинций, новые города встают там, где еще вчера пасли скот, вокруг столиц расползаются бараки и хижины. Пытаясь передать неопределенность и смутную опасность чужбины, понимаешь, до какой степени все, о чем ты думал, можно отнести и к новым обитателям городов, даже если они приехали сюда и не из другой страны. Отчуждение сегодня – не болезнь какой-то отдельной категории людей, а удел многих и многих, так что у эмигранта, если вдуматься, нет причин особенно горевать о своей судьбе.
Не утрата ли гармоничных связей с окружающим пространством, неспособность чувствовать себя в мире как дома, угнетающая переселенца, изгнанника, эмигранта – каким из этих слов его ни назови, – парадоксальным образом связывает его именно с нынешним обществом и дарит ему, если он художник, уверенность, что его поймут? Больше того: может, чтобы выразить экзистенциальную ситуацию современного человека, художник и должен так или иначе быть в изгнании? Не об этом ли драмы Беккета? Время в них – не безмятежное повторение, примиряющее рутину с ладом; напротив, пустое и гиблое, оно стремится к призрачным целям и замыкается в круг безысходной тщеты. Но человек в этих драмах не может установить контакт и с пространством – безвоздушным, однообразным, лишенным любых броских примет, настоящей пустыней.
Пишу эти слова, а в голове у меня – мотив польской духовной песни: «К Тебе мы взываем, изгнанники Рая». Ведь и правда, наша жизнь снова и снова воспроизводит то, первое изгнание из райского сада, и не важно, будет ли этот сад материнским лоном или завораживающими взгляд деревьями детства. Традиция веками воссоздавала образ земли как пустыни изгнания, обычно изображая ее безлюдным и бесплодным краем, по которому, понурив головы, в одиночестве бредут Адам и Ева. Они утратили место жительства, свой настоящий дом, где один и тот же ритм правил их телами и всем, что их окружало, где они жили, не зная разлук и печалей. Оглядываясь, они могли видеть огненный меч, стерегущий врата потерянного рая. Память о запрете приправляла горечью их ностальгические мечты о возвращении к прежней счастливой жизни. И все же они никогда до конца не расставались с надеждой, что когда-нибудь их изгнание закончится. Лишь позднее, гораздо позднее эти грезы сложились в образ вневременного златого града, небесного Иерусалима.
Библейский образ подталкивает к расхожей мысли, будто жить в изгнании – значит, то и дело возвращаться взглядом в края, которые покинул. И действительно, множество стихов и романов в нашем столетии написано изгнанниками, из-под чьих перьев родные места вышли куда краше, чем были взаправду, и только потому, что авторы их утратили. Но тут напрашивается возражение. Да, с отъездом возникает разрыв, который можно измерять в километрах, милях, в сотнях и тысячах миль. Библейский образ отсылает к движению в пространстве, что в наших понятиях означает преодоление границ, охраняемых вооруженными солдатами. Однако разрыв можно измерять не только в милях, но и в месяцах, годах, десятках лет. Тогда жизнь каждого человеческого существа предстает неумолимым движением от детства к разным периодам юности, а дальше – к зрелости и старости. То, что было когда-то в жизни каждого, подвергается в его (или ее) памяти беспрестанной перекройке и чаще всего принимает черты безвозвратно потерянного края, тем более чужого и чудесного, чем больше времени утекло. А стало быть, разница между движением в пространстве и во времени вовсе не так уж очевидна. И легко можно представить себе старого эмигранта, который при мысли о местах своей молодости вдруг понимает, что отрезан от них не просто каким-то количеством километров, но и морщинами на лице, и седыми волосами – пограничными знаками, выставленными самым суровым стражем рубежей, временем. И что тогда значит изгнание, если в этом смысле каждый из нас – изгнанник?
И все-таки изгнание в географическом смысле слова вполне реально, и те, кто узнал его на опыте, пытаются так или иначе обернуть случившееся лучшей стороной. Сама мысль о нынешних масштабах изгнания уже может облегчить жизнь или даже пощекотать чье-то самолюбие причастностью к избранным. А следом приходит осознание того факта, что история знает целые государства, основанные переселенцами, – скажем, Соединенные Штаты. Как бы там ни было, художник или писатель в эмиграции не может не задаваться вопросом о своих творческих силах. Часто приходится слышать про потаенную связь между творчеством автора и землей его предков, почвой и солнцем родины, звуками родной речи. Источники вдохновения, говорят нам, могут легко пересохнуть, если живешь за границей. И в самом деле, немало даровитых, подававших надежды поэтов, художников, музыкантов покинули свои страны только для того, чтобы потерпеть крах и погрузиться в безмолвие, навсегда скрывшее их имена. Утверждение, будто живительная сила заключена в родной земле, во многом верно, только если не принимать в расчет самое главное – родную речь с ее неповторимыми оттенками. Страх бесплодия неразлучен со всяким художником на чужбине и, присущий художникам вообще, переживается изгнанниками особенно остро.
Надежным утешением может служить перечень тех, кому, вопреки любым препятствиям, удалось одержать победу. Лучшие стихи на таких языках, как польский и армянский, были написаны за границей теми, кого на родине преследовали по политическим мотивам враждебные державы. Годы, проведенные в Париже, вдали от родного захолустного Витебска, не помешали Марку Шагалу и дальше летать в том же небе вместе с крышами домов, козами и коровами его детства и вечной юности. Исаак Башевис Зингер с благодарностью обратился в Америке к воспоминаниям и образам навсегда ушедшей жизни польских евреев. И еще не факт, что Джеймс Джойс создал бы «Улисса», оставшись в Дублине; я бы скорее предположил, что, не покинь он родных мест и не откажись подчинить свое перо патриотическим целям, ему бы никогда не описать Ирландию с надлежащего расстояния. А Игорь Стравинский, вопреки злорадным сплетням, будто после «Весны священной» он растратил свой дар, в многолетнем изгнании целиком сохранил творческую мощь (и русский дух).