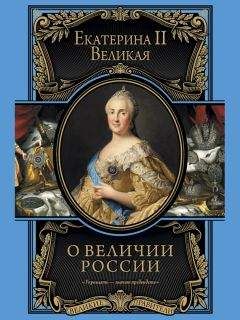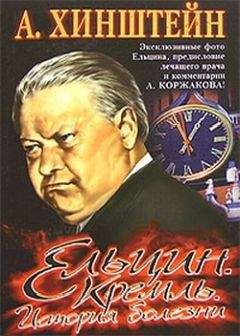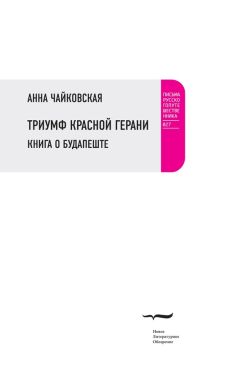Ольга Чайковская - Несравненная Екатерина II. История Великой любви
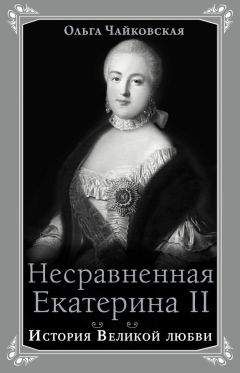
Помощь проекту
Несравненная Екатерина II. История Великой любви читать книгу онлайн
Так вот и шла эта странная суздальская жизнь. Никто о ней Петру не донес, а царь, как мы знаем, все время проводил в заграничных разъездах.
Но вот началось дело царевича Алексея, нити потянулись в Суздаль, пошли аресты тех, кто был привержен Евдокии Федоровне, был арестован и Глебов, уже генерал.
В погибельной процессии, которая вышла из кремлевских ворот, он шел впереди вместе с Александром Кикиным, приближенным царевича, епископом Досифеем, который предрекал Евдокии, что она будет царствовать, Никифором Вяземским и другими, которых считали главарями, за ними следовали еще человек пятьдесят, в том числе суздальские монахи и монахини. Многочисленные палачи принялись за дело – и рубили на плахах, и вешали за ребра. Досифея, Вяземского и некоторых других тут же стали живьем рвать на части специальными железными лапами. Очевидцы говорят, что слышно было, как ломаются кости и лопаются жилы. И Петр, разумеется, был тут. Когда мимо вели Кикина, он остановил его и спросил, как он, с его умом, оказался в этом деле (и обещал: если Кикин сообщит нужные сведения, ему просто отрубят голову). «С моим умом? – ответил Кикин. – Моему уму такая теснота была при тебе» – и сплюнул (прямо царю под ноги?). И тут же, как видно, тоже по данному знаку, его стали рвать железными лапами.
В это время на кол сажали Глебова.
Казалось бы, главной фигурой кровавого спектакля должен был быть Кикин (он помог царевичу бежать за границу), но главную роль царь отвел Глебову – и в том состояла глубоко личная месть Петра (казалось бы, Евдокию он терпеть не мог, сам порвал с нею, и все же ее любовь к Глебову, как видно, приводила царя в бешенство). Молодому генералу предстояло умирать на колу высоко над толпой. По некоторым сведениям, он умер скоро, по другим – мучился сутки. Ходил рассказ о том, будто наш Цепешь, поскольку ночи были холодные и казнимый мог погибнуть раньше времени, велел надеть на Глебова теплый тулуп и приходил к нему – поговорить (и такое вполне правдоподобно). Молодой человек сделал единственное, что мог сделать, – плюнуть царю в лицо.
А может быть, в этом рассказе передан искаженный эпизод с Кикиным, плюнувшим царю под ноги, – кому-то очень хотелось, чтобы то был Глебов и чтобы он плюнул Петру в лицо.
В наше сознание врезали образ Петра, мореплавателя и плотника, но и эту картину – Петра на Красной площади – мы тоже должны знать и помнить.
Евдокию Федоровну посадили в Шлиссельбург, и Екатерина I, придя к власти, заботилась о том, чтобы условия жизни в тюрьме были для царицы Евдокии возможно более тяжелы.
Ненависть к Екатерине и любовь к Петру, утвердившиеся в советское время, совсем не случайны: Петр действительно был тот царь, что «за советскую власть», недаром сталинское время так густо его позолотило и так густо замазало грязью имя Екатерины.
* * *Екатерина была влюблена в Россию. Она нисколько ее не идеализировала, знала ее «гнилые раны», ее темноту, невежество, ее законы, «страшные и ужасные», и все же то была ее страна, ее ответственность, поле ее сражений.
Недаром же она ни на день, ни на час (ни ногой!) не была за границей, даже ни разу не посетила свою бывшую родину. Все, что она любила, и все, что ее заботило, – все это было дома.
Она собиралась преобразовать страну с помощью Закона, в частности, изменить положение крепостного крестьянства, постепенно вытеснить крепостное право, которое считала великой бедой и великим позором России. Убедившись (после работы Большого собрания Уложенной Комиссии), что ей не дадут ничего изменить, что путь этот для нее наглухо закрыт, она не пришла в отчаяние и не растерялась, как полагают некоторые историки, но перешла на другой путь, который заготовила себе про запас. Все-таки нельзя не подивиться ее уму, если, разрабатывая программу действий, она не только предвидела поражение, но и обдумала, как ей в случае чего действовать дальше. Эту вторую программу мы уже знаем: если общество («умы людские») не готово к преобразованиям, надо их «приуготовить», иначе преобразования поневоле станут насильственными, а это невозможно, потому что (как сказано в том же Наказе) «законоположение должно применять к народному умствованию. Мы ничего лучше не делаем, как то, что мы делаем вольно, непринужденно и следуя природной нашей наклонности». Ненасильственно – вот главный ее принцип.
Создавая свой Наказ, она, конечно, понимала, что «умы людские» не «приуготовлены», только не представляла себе, до какой степени – свары в Большом собрании доказали ей это с очевидностью. Перед ней как бы встал выбор: либо в угоду общественному невежеству ухудшать законы, либо поднимать общество до законов разумных и благородных. Конечно, она выбрала второе – преобразование, улучшение самого российского общества.
Такой переход с одного пути на другой был ей несложен: отказываясь от борьбы с крепостным устройством страны, она легко попадала в попутное течение, в царство общепринятых взглядов.
Российское дворянство находило крепостной строй не только естественным, но и справедливым, а все, что было в нем жестокого и мрачного, считало искажением нормы (происходило примерно то же, что и в недавние времена, когда сторонники советского строя убеждали себя и других, что сам строй отменно хорош, а все, что в нем нехорошо, – это его искажения).
Передовой дворянин XVIII века, исходя из современных ему нравственных норм, считал себя отцом своих крестьян (даже будучи безусым мальчишкой, полагал себя отцом бородатых мужиков), а их соответственно – детьми, которые ввиду их «невежества» нуждаются в надзоре. Недаром передовые журналы того времени корят помещиков именно за то, что они не обращают внимания на нравственность своих крестьян, не исправляют их пороки – и какая-нибудь кромешная помещица, следя за поведением своих девок, была твердо убеждена, что тем самым выполняет общественный долг.
Если помещик будет блюсти свои обязанности, а крестьянин исполнять свой долг – работа и повиновение, – все они будут благополучны.
И тогда какая в том беда, если крестьянин перейдет от одного помещика (хорошего) к другому (тоже неплохому) – факт продажи человека человеком не заставлял вздрагивать сердца даже передовых дворян.
Екатерина была поражена, когда в ходе заседаний Большого собрания столкнулась с подобным отношением дворянства к крестьянам. «Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, – пишет она, – и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать камнями». Любопытное признание; значит, когда речь заходит о главном – о крепостном праве, – дворяне готовы забыть даже о почтении к государыне – не забыли бы они о верности ей, если дело дойдет до дела.