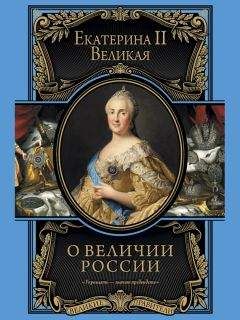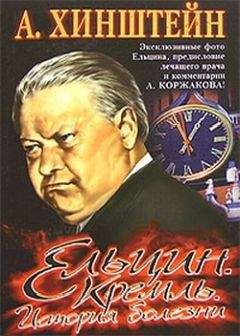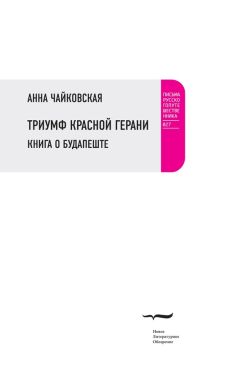Ольга Чайковская - Несравненная Екатерина II. История Великой любви
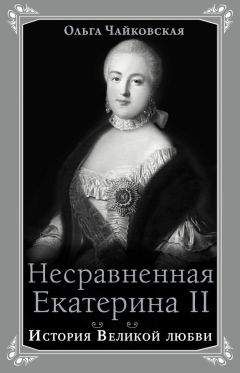
Помощь проекту
Несравненная Екатерина II. История Великой любви читать книгу онлайн
Екатерина жалуется: «Чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества», когда в Уложенной Комиссии были подняты вопросы, касающиеся крестьянства, и невежественные (вспомним, что на языке эпохи это значило «порочные») дворяне «стали догадываться, что эти вопросы могут привести к некоторому улучшению в настоящем положении земледельцев, разве мы не видели, что даже граф Александр Сергеевич Строганов, человек самый мягкий и, в сущности, самый гуманный, у которого доброта сердца граничит со слабостью, как даже этот человек с негодованием и страстью защищал дело рабства, которое должен был бы обличить весь склад его души».
Невольно создается впечатление, будто это она нам, потомкам, жалуется на то, что окружающие ее не понимают, – если не считать, как она говорит, человек двадцати, которые разделяют ее взгляды.
Но обратимся к кому-нибудь из этих двадцати, предположим, к Сиверсу, чьи взгляды на крепостничество так часто совпадали со взглядами императрицы. С возмущением говорит он, в частности, о праве, которое дано помещикам, – ссылать своих крепостных в Сибирь, но возмущен Сиверс тем, что помещики пользуются этим правом, чтобы посылать в ссылку старых и больных, ненужных в хозяйстве, и получать за них «рекрутскую квитанцию», свидетельствующую о том, что помещик как бы сдал в армию рекрута. Сиверс предлагал отменить право помещиков получать за сосланного крестьянина «рекрутскую квитанцию», но само право помещика ссылать крестьян в Сибирь для него сомнению не подлежит. Не менее странно (чтобы не сказать – страшно) звучит его предложение, связанное с поимкой беглых, переходящих государственную границу. Сиверс, равно как и Екатерина, отлично понимал причины крестьянских побегов (и прямо говорил об этом), но интересы государства были для него превыше всего, он предлагает выдавать денежную премию пограничникам и жителям пограничных областей за выдачу каждого беглеца – мера совершенно безнравственная, чисто «плантационная», но гуманному новгородскому губернатору она кажется вполне естественной. Было у него сочувствие к народу, жил в душе его гнев против помещиков, налагавших на крестьян неподъемное бремя поборов и барщины, протестовал он и против жестокости наказаний – но ощущения равенства людей, их общего всем человеческого достоинства у Сиверса не было, крестьянин в его представлении вряд ли был полноценным человеческим существом. Гуманный (как сказали бы в XVIII веке – добродушный) новгородский губернатор видел в крестьянах людей, требующих опеки и заботы, и все-таки – не совсем людей. Или лучше сказать – детей, требующих присмотра, а если надо, то и наказания, – тот же всеобщий взгляд русских дворян на своих крепостных.
Но дело обстоит и того хуже. В своих «Записных книжках» князь П. Вяземский сообщает эпизод, который рассказал ему Д. Бутурлин: отец Бутурлина был соседом по поместью Новикова; когда тот вернулся из Шлиссельбурга, «созвал он соседей на обед, чтобы праздновать свое освобождение. Перед обедом просил он позволения у гостей посадить за стол крепостного человека, который добровольно с 16-летнего возраста заперся с ним в крепости. Гости приняли предложение с удовольствием. Через несколько времени Бутурлину сказывают, что Новиков продает своего товарища. При свидании с ним спрашивает его: «Правда ли это?» «Да, – отвечает Новиков, – дела мои расстроились, и мне нужны деньги. Я продаю его за 2000».
Эпизод этот не подтвержден объективными доказательствами, но всего ужаснее комментарий, которым Вяземский, один из умнейших людей своего времени, сопроводил этот рассказ: «Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям… В свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашнего порядка и обычаев». Русского дворянина XVIII века крепостные порядки особо не тревожили.
Казалось бы, резкие противоречия эпохи, жесткая борьба старого и нового, полная невозможность согласовать благородные идеи Просвещения с низостью крепостничества, ужас крестьянской войны, наконец, – все это должно было бы встревожить дворянскую душу, привести ее к трагической раздвоенности? – ничуть не бывало: душа не раздваивалась.
Жизнь испытывала русского дворянина на разрыв, – а он не разрывался.
Еще не настала пора душевной раздвоенности, еще не родились те мрачные, мятежные, что мечтали о буре, как будто в буре есть покой.
XVIII век мечтал о самом покое. Он устал от самого себя, этот век, от насилия, которым пронизано общество, от дикой встряски петровских реформ, от петровских пыток и казней, от пыток и казней времен Анны, от беззаконий, просто от отсутствия законов, которые могли бы защитить человека.
Страстно, всеми своими сословиями искал он покоя. Державин выразил мысль эпохи, когда сказал, что счастье человека возможно лишь в том случае, если в покое его душа. В послании к своему другу, Николаю Львову, воспевая его как идеального человека, поэт описывает его безупречную жизнь. В его имении
Ему благоухают травы,
Древесны помавают ветви
И свищет громко соловей.
За ним раскаянье не ходит
Ни между нив, ни по садам,
Ни по холмам, покрытым стадом,
Ни меж озер и кущ приятных:
Но всюду радость и восторг.
Труды крепят его здоровье,
Как воздух, кровь его легка…
Потому и кровь его легка, что за ним раскаяние не ходит. Социальное раскаяние не пришло еще к русскому дворянству.
Да, XVIII век мечтал о покое. Ведь и те крестьяне, что целыми деревнями снимались с места в поисках Белозерья или града Китежа, спасаясь от крепостного права, искали именно той счастливой земли, где можно было бы спокойно работать.
Лесная поляна, на ней стоят шалаши – это помещик Мертваго с семьей и дворовыми, долго скитаясь по местам, уже захваченным пугачевцами, и не найдя другого пристанища, укрылся в глухой чаще, здесь они живут уже три дня, «не слыша ничего, кроме птичьего крику».
Кругом бродит смерть. Пугачевцы истребляют всех дворян, не глядя ни на пол, ни на возраст (да, и дряхлых стариков, и грудных младенцев – в семье Мертваго новорожденный ребенок).
У них кончилась провизия, они послали дворового что-нибудь купить, он их выдал, и в ту же ночь их лагерь был окружен. Мертваго-младшему, попавшему в плен, пришлось проехать родными местами, видеть поместья, где недавно гостил, разгромленными и сожженными, а близких людей – порубленными и повешенными. Он выжил, Дмитрий Мертваго (и написал замечательные мемуары о пугачевщине), а его отец прибежал в свое поместье; видно, он был из хороших помещиков, потому что крестьяне укрыли его и попытались вывести в город. Но какая-то баба, стиравшая на речке белье, выдала его пугачевцам; те собрали дворовых и крестьян, сказали им, что они могут бить своего помещика, но желающих не нашлось; тогда его повесили, и молодые казаки тренировались на нем в стрельбе.