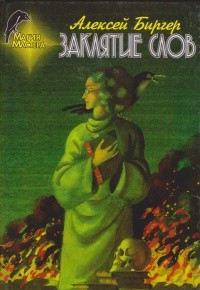Николай Языков: биография поэта - Алексей Борисович Биргер
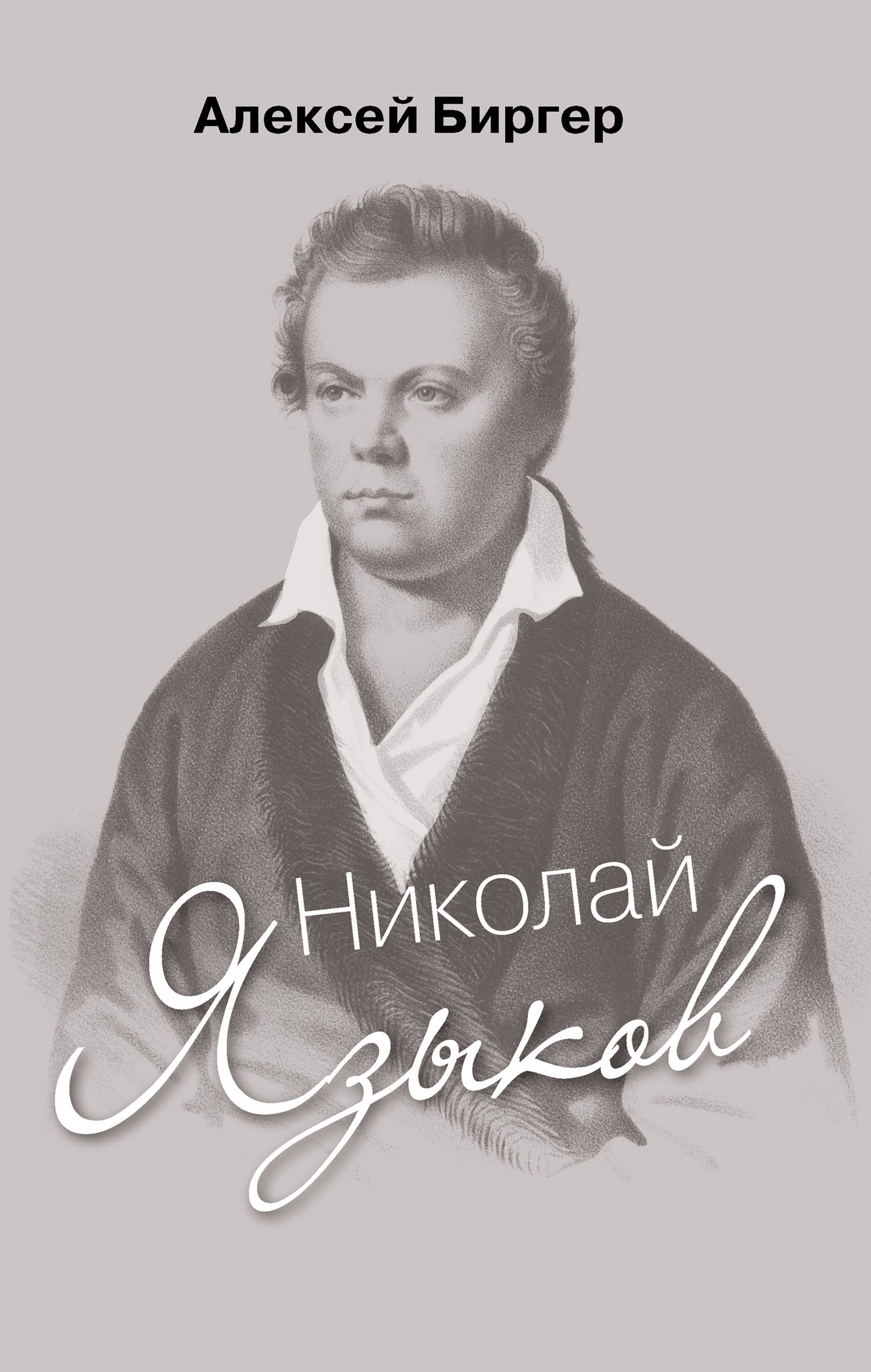
Помощь проекту
Николай Языков: биография поэта читать книгу онлайн
Да, так очень часто бывает с благодушными и добродушными людьми: они уступают и уступают родным, друзьям, и близким, вплоть до внутреннего насилия над собой, но подобное насилие над собой нельзя терпеть бесконечно, и происходит некая отдача слишком сжатой пружины – возникают спор и несогласие на самом неожиданном месте, лишь бы поспорить и показать, что ты не сдаешься, что ты способен пойти наперекор течению и отстоять свою самость. (Да кто не припомнит многочисленные примеры добродушнейших родных и знакомых, готовых вспыхнуть и ввязаться в жаркий спор по любому поводу, на веранде или к комнате пить чай, через переулок или через сквер дойти в гости, стоит ли смотреть тот или иной фильм, хорошо ли убирают в подъезде, и что угодно? – и ведь чуть не клочья летят, пока они вдруг не затихнут на полуслове с застенчивой улыбкой.)
Мешало это Языкову? Мешало. Но многие человеческие качества, присущие всем людям, мешают любым великим поэтам. Что-то мешало Шекспиру, что-то – Гете, что-то – Пушкину или Вийону; и порой именно через преодоление этих «помех» рождалась великая поэзия.
Рождалась и через то, что мы, если не вглядимся в суть, можем назвать парадоксом, хотя парадокса – в смысле изящной французской максимы или афоризмов Оскара Уйальда, намеренно играющих с противоположностями – тут никакого не существует. То есть, не существует ни заранее намеченной преднамеренности, ни неглубокой игры.
Много мы говорили – и справедливо – о том, что Языков рос и мужал от Державинского корня и в про-Державинское окружение был погружен намного больше, чем было бы ему полезно по направленности и мощи его таланта. А вот Гоголь в своей статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенности» высказал, вроде бы, прямо противоположное; что Языков даже излишне от Пушкина зависел:
«Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обработывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он; это услышали все. И уже скорее от Державина, нежели от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое…»
И это – при безмерной любви Гоголя к Пушкину, перед преклонением перед его памятью, при почти столь же безмерной любви к Языкову!..
Прочесть можно так, что сбился бедняга Языков с пути и, слепо следуя Пушкину, многого не создал, что мог бы по размаху дарования создать, но… У самого Пушкина мы находим объяснения, что Гоголь имел в виду нечто иное – и что это уж наверняка не раз было говорено между Пушкиным и Гоголем, Пушкиным и Языковым, потому что такой темы они не могли обойти.
В набросках «Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине» – а возражение это не только и не столько самому Кюхле, как в целом архаистам и «державинистам» «гражданственного» направления – Пушкин отмечает особо:
«Ода исключает постоянный труд, без которого нет истинно великого.»
Может показаться немного странным кое-что что из того, на чем Пушкин строит этот окончательный вывод, например:
«…Но плана нет в оде и не может быть – единый план Ада есть уже плод высокого гения. Какой план в Олимпийских одах Пиндара, какой план в Водопаде, лучшем творении Державина?»
Как же так? И Рылеева презрительно обзывал «планщиком», предпочитая «поэзию без плана» «плану без стихов», и мог бы припомнить не только «Водопад», но и «На смерть князя Мещерского», «Бог», «Фелицу», «На взятие Измаила», где строго исполняемый план во всяком случае есть, и – пусть о вкусах не спорят, но все-таки как-то слишком задиристо звучит – зачем с напором провозглашать «Водопад» «лучшим творением Державина», когда он сам, Пушкин, и раньше и позже этих строк ставил вровень с «Водопадом» другие державинские вещи?
Все противоречия разрешаются, если мы еще раз припомним все, что уже было сказано о борьбе архаистов и новаторов, о роли самого жанра «оды» (как «ораторского» жанра) в этой борьбе и о том понимании Державина, несколько однобоком, которое архаисты пытались навязать обществу в результате этой борьбы.
Да, ода как «ораторское действие» «с установкой на внепоэтический смысловой ряд» – по Тынянову, отсюда привлекательность (и выгодность, и перспективность) принципов оды для театра, где действие решает всё… Впрочем, тут же возникает новое противоречие, порождающее новый вопрос: ни одна пьеса, ни одно театральное действо не может обойтись без какого-никакого плана, без какой-никакой (пусть сколь угодно плохой) заранее продуманной логики движения характеров, вступающих в конфликт, хоть трагический, хоть комический, – значит, жанр оды дает все возможности для успешного планирования, для работы над общим замыслом, значит, в самой природе оды это заложено, как и «постоянный труд», как же с этим быть?
Здесь прежде всего надо сделать упор на слово «действие»: «Одой» архаисты называют те произведения этого (оды) жанра, которые обладают гражданственным пафосом, требовательным призывом к действию, распространяемым не только на театр, но и на всю жизнь. Слово, поэзия – лишь средство, цель – преображение общества, и, желательно, наикратчайшим, то есть, революционным путем: плох тот оратор, после яркой и зажигательной речи которого толпа слушателей не кинется сносить все на своем пути.
Как духовное наследие Державина выносится за скобки, так, прежде всего, за скобки выносятся – усиленно не замечаются – его духовные оды. В понятиях архаистов, «Думы» Рылеева или «баллады» Катенина – творческое развитие Державина, переосмысление для нового времени всего лучшего, что есть в его одах. Пушкин выделяет «Водопад» как единственную духовную оду Державина, в которой действительно нет плана – в том понимании, какое вкладывают в это слово архаисты.