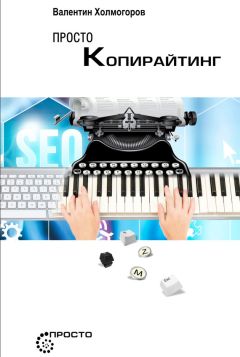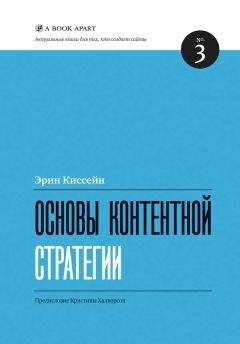Евгения Федорова - На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной
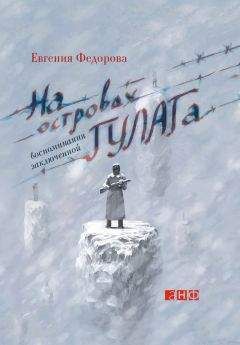
Помощь проекту
На островах ГУЛАГа. Воспоминания заключенной читать книгу онлайн
Аглая Михайловна, передавая мне дежурство, меня напутствовала: «Кузьмин, вероятно, экзитирует сегодня (это элегантное иностранное слово означало просто — «умрет»). — На всякий случай введите ему камфару, может, до утра и дотянет…»
Я не понимала, да и сейчас не понимаю, почему надо было вводить камфару, чтобы Кузьмин дотянул до утра? Для кого это было «надо»? Для Кузьмина, который мучался в агонии? Или для кого?
Но таков незыблемый врачебный закон: до последней минуты бороться за жизнь — не давать умереть… Это было 50 лет назад, но и до сих пор вопрос о «разрешении умереть» все еще стоит на повестке дня современной медицины.
Не морфий или пантопон — но камфара и кофеин. Даже если у человека от обоих легких не осталось ничего. Даже если раком задушены все внутренности…
В панике я бросилась в дежурку, санитара послала наверх за Екатериной Михайловной. Слава Богу, она дежурила тут же, в терапии, два марша вверх по лестнице. Я сама старалась набрать в шприц камфару, но она почему-то не набиралась…
Катерина прибежала сразу. Она очень ловко набрала в шприц камфару и сделала умирающему укол. С соседних коек — со всех сторон — смотрели странные расширенные глаза, в которых отражались язычки пламени моей коптилки.
У этих несчастных уже не было сил даже кашлять. Они лежали молча и неподвижно, только непрерывное клокотание в груди показывало, что они еще живы, что они еще не «экзитируют»…
Через несколько минут Кузьмин умер. Его накрыли с головой одеялом, и два санитара положили на носилки и вынесли из палаты. Мы вышли тоже. На прощанье Катерина сказала больным: «Ну что поделаешь?.. Спите спокойно». И показалось, больные вздохнули спокойней…
— Катеринка, — спросила я в дежурке, — а ведь, наверное, надо было послать за Грудзинским?
— Зачем? — грустно ответила она. — Ведь он и так знал, что Кузьмин умрет сегодня ночью или завтра… И что же он может сделать, доктор Грудзинский?.. — Она смотрела на меня с такой жалостью, как будто это я сама должна была умереть сегодня или завтра…
В больнице, хоть и «центральной», не было фтизиатра. Как-то так случилось — были и терапевты, и хирурги, и инфекционисты, даже гинекологи, ибо к нам же привозили трудных рожениц, иногда в состоянии комы… Был великолепный офтальмолог и глазной хирург — перс, теперь сказали бы иранец, Алибей Асадулаевич Мурадханов, к которому приезжали делать операции высокопоставленные энкавэдэшники с Лубянки.
А вот фтизиатра не было. И туберкулезным отделением заведовал старый поляк — терапевт, доктор Грудзинский. Ему было, вероятно, не больше 60, но выглядел он глубоким стариком. Он был красив. С белоснежными густыми волосами, с бородкой клинышком, с удлиненным лицом, почти лишенным морщин, всегда грустным, но слегка надменным, он, казалось, сошел с портрета какого-то средневекового испанского гранда. Только белого воротника с плюмажем не хватало! Его белоснежный, всегда подкрахмаленный халат был свеж и безукоризнен.
Первое время я ужасно боялась рот раскрыть, уверенная, что ляпну какую-нибудь глупость или задам дурацкий вопрос. Но оказалось, что «испанского гранда» бояться совершенно нечего. «Высокомерность» его была не более чем привычной игрой, и «испанский гранд», как и все остальные, также тосковал по своим взрослым дочерям и маленьким внукам, тем более что, боясь им «навредить», просил их писать редко и коротко, как и сам делал, — и пожалуйста, никаких посылок!
Он был из русских поляков, сидел давно, с начала 30-х, и его семья жила где-то в средней России.
Ко мне он относился снисходительно и чуть насмешливо, как мне казалось, потому что он знал, что никакая я не медсестра и в медицине ничего не понимаю. Но в нашем ТБЦ-отделении не было профессионалов, да и сам он не был фтизиатром, тем не менее мы оба старались делать свое дело как могли хорошо…
Увы, нашим туберкулезникам мы практически ничем помочь не могли. У нас ничего не было. Ни медикаментов, ни аппаратуры, ничего, кроме шприцов с затупившимися иглами. Был, правда, аппарат для пневматорокса, но вряд ли и опытному фтизиатру пришлось бы пользоваться им.
Дело в том, что туберкулезники попадали в Мошево, когда уже оба легких были изъедены кавернами — куда же «поддувать»?!
У нас почти не было ни героина, ни кодеина, чтоб хоть на время избавить несчастных от непрерывного кашля, раздирающего остатки легких. Только «солюция» ипекакуаны да раствор хлористого кальция — все, что имелось в нашей аптечке. Морфий и пантопон были привилегией только одного хирургического отделения. Пенициллин и стрептомицин уже начали входить в медицину, но…конечно, не для лагерных больниц. И хорошо, что больные о них еще и не знали.
Не было у нас и самого главного — калорийного питания, которое могло бы поддержать силы организма для борьбы с болезнью. Туберкулезники получали тот же «общий» больничный стол, что и все, кроме больных в первые послеоперационные дни в хирургии. Больничное питание было до того скудно, порции такие микроскопические, что о калорийности смешно было даже говорить. Тем не менее ее аккуратно, ежедневно подсчитывал — диетолог по совместительству — наш знаменитый офтальмолог доктор Мурадханов, и таблицы с подсчитанными калориями ежедневно клались на стол главного врача — директора центральной больницы Неймарка — единственного вольнонаемного врача и хозяина всей больницы.
Может быть, он и читал их — но что он мог сделать?
Питание?.. Откуда же его было взять?.. Ведь это был концлагерь — да еще в военные годы…
На грани голода жили все — и больные, и персонал. Единственное, что поддерживало жизнь наших туберкулезников — это 400-граммовая больничная пайка. Пайка черного кислого хлеба. Сестра-хозяйка, раздававшая пищу, разрезала эту пайку на три куска, чтобы больные не съедали ее сразу с утра. Если случались — не часто — какие-то добавочные порции, их отдавали в хирургию и терапию, где врачи ссорились между собой за «своих больных» и назначали их более «перспективным», которые могли еще выздороветь.
На долю туберкулезников не доставалось ничего.
Но все, кроме самих больных, умолявших о добавке, понимали, что это — справедливо, ибо для туберкулезников добавка ничего не изменит — ведь все они все равно были обречены…
Конечно, попавшие в Мошево все же были счастливцами — они лежали (и умирали) на железных койках, на чистых простынях; они лежали в палатах со свежим воздухом, так как форточки никогда не закрывались.
Пока они были ходячими, они пользовались уборной, а на «последние дни» их переводили в небольшую, на три — четыре человека, палату — палату номер четыре, где было «спокойнее и условия гораздо лучше», как мы их уверяли: «Сами убедитесь!» Вряд ли больные нам верили, но что же было делать?..
Но доктор Грудзинский и в этих условиях пытался что-то «делать». Делал все, что было в его силах, и больные чувствовали это и обожали его.
…Вспоминаю. Мы отправляемся на обход. Ежедневный утренний обход всех палат. Двери в палаты закрыты. Из-за них доносится то затихающий, то нарастающий, почти непрерывный кашель… Длинный коридор…
— Ну-с, Пимперле! — Почему-то он окрестил меня этим прозвищем. Что оно означало, вероятно, он и сам не знал, но, очевидно, что-то связанное с молодостью и неопытностью, ибо, хотя мне уже минуло 35, я была самой молодой из мошевских медсестер.
— Ну-с, Пимперле, — говорил доктор Грудзинский, останавливаясь перед дверью палаты, в которую нам следовало войти, — «сделаем лицо»!
И лицо его принимало бодрое, энергичное выражение. Даже глаза начинали блестеть. Словно волной смывало усталость, старость, тоску…
— Пошли!
Он широким жестом распахивал дверь, галантно пропуская меня вперед: «Сестра, прошу!..»
— Доброе утро, как дела? — весело приветствует своих больных доктор Грудзинский.
— Доброе утро, доктор! — несется со всех сторон. Начинается обход.
— Да… Кашель, конечно, мучительно… Конечно. Но вы же ведь образованный человек?.. Вы же понимаете, что это — отделение мокроты, это необходимо и это — единственное, что может спасти… Потерпите, дружок!
— Ну, как дела, работяга?.. Вид-то у вас сегодня получше!.. Температура?.. Хм… (температурный лист висит в ногах, на спинке кровати)… Да, конечно, температурка держится!.. Но, поверьте, это вовсе не плохо. Значит, организм борется — борется, и это — главное!
Вот так и дальше. Каждому доброе, ободряющее слово, может быть, и не совсем правдивое, но ведь только это может дать своим больным в данной ситуации доктор Грудзинский.
И тут, в палате безнадежно больных, обреченных людей наступали удивительные минуты… Безобразные железные койки, серые застиранные одежда, изможденные лица — все уходит куда-то, исчезает из действительности, улетучивается, как печаль и тоска с лица доктора Грудзинского. Все забывается; верится во все, пусть самое невероятное, самое несбыточное… Редкие, удивительные минуты. Даже кашель внезапно утихает. Ему верят. На него надеются.