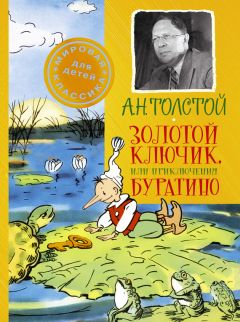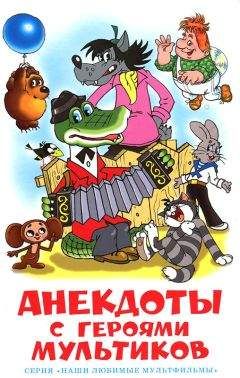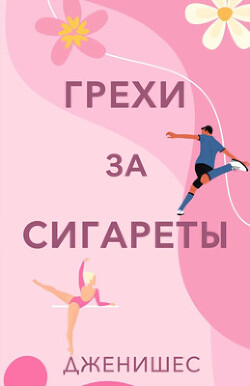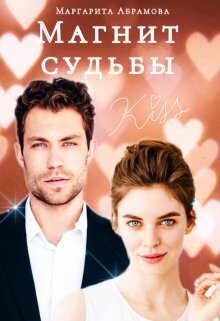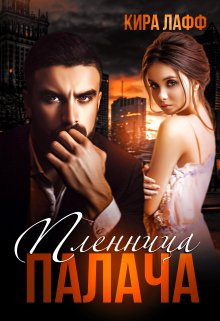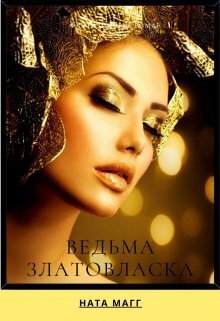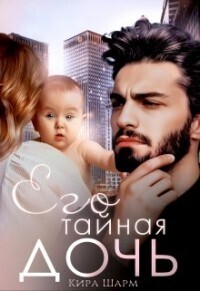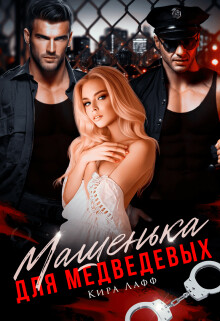Сергей Ушакин - Веселые человечки: культурные герои советского детства

Помощь проекту
Веселые человечки: культурные герои советского детства читать книгу онлайн
Мне прислали ящик глиняных трубок для выдувания мыльных пузырей. Местные дети о мыльных пузырях знали, но их способ выдувания был гораздо менее эффективен по сравнению с тем, на что были способны мои трубки. Восторг детей по поводу красоты и размеров пузырей, созданных с помощью этих трубок, впрочем, длился недолго. Поиграв всего лишь несколько минут, девочки стали упрашивать меня разрешить отнести трубки их матерям. Трубки здесь предназначались для курения, а не для игры. Иностранные куклы их не интересовали вообще; своих же кукол у них не было… Они никогда не играли в «дом» и не строили шалашей. Мальчишки не пускали корабликов; вместо этого время от времени они забирались в настоящую лодку и учились управлять ею в безопасном заливе [23].
Для Мид такое отсутствие «кукол и корабликов» — то есть отсутствие специально обозначенного временного, пространственного и материального мира детской игры — стало поводом для принципиального анализа сути, роли и статуса детства в разных культурах и сообществах. На Самоа игра вовсе не была антитезой ненавистной и/или скучной работе: игра была «способом заполнения широких пробелов в структуре неутомительной работы» [24].
Отсутствие резкой дифференциации между «игрой» и «работой», в свою очередь, позволяло нивелировать и принципиальность различий между детьми и взрослыми: «По своему типу, интересам и пропорциональному отношению к работе игры детей не отличались от игр взрослых» [25]. Автономии мира взрослых и мира детей противопоставлялся опыт относительно плавной интеграции различных возрастных стадий. Как показывала жизнь на Самоа, установка на межпоколенческую преемственность в образе жизни, характере решений и формах ответственности лишала сколько-нибудь устойчивой основы потенциальное стремление членов одного поколения к внутри групповой конкуренции. Сам феномен отдельной детской субкультуры в итоге оставался без своей социальной и психологической структуры. Акцент на сходстве поколений нивелировал и конкуренцию между поколениями: залогом социального успеха являлась не индивидуализация, а следование общей норме. Взросление, таким образом, связывалось не столько с резким качественным скачком, знаменующим переход от стадии беззаботности к стадии ответственности и независимости («возраст совершеннолетия»), сколько с постепенным — и относительно безболезненным — количественным освоением практик, норм и правил общежития.
Это постепенное врастание детей в культуру взрослых для Мид представляло собой удачную альтернативу европейским и американским моделям «социализации», в которых взросление увязывалось с успешным «окончанием» сети специально созданных для этой цели институтов — условно говоря, от детских яслей до университета. Созданные и контролируемые взрослыми, институты социализации тем не менее «обучали» формам и практикам жизнедеятельности, зачастую мало связанным с формами и практиками жизнедеятельности родителей в частности и взрослых в целом. Платой за такой самостоятельный статус детской культуры оказывались многочисленные депрессии и неврозы, вызванные «переходом» к взрослой жизни [26]. Сама постепенность взросления детей на Самоа стала свидетельством в пользу довода о том, что индивидуальное становление не обязательно должно быть периодом стрессов, вызванных опасением не сдать «экзамен на зрелость».
Зафиксированное Маргарет Мид структурное противопоставление разных моделей детства [27], то есть автономного детства, с одной стороны, и детства, «встроенного» в повседневный ритм жизни взрослых, — с другой, любопытным образом воспроизводит ситуацию позднего советского времени.
В своей недавней статье Катриона Келли призывает при описании советского детства уйти от бинарных оппозиций вроде «золотой век»/«трудовой лагерь» и предлагает взглянуть на детскую культуру в контексте общеевропейской истории ХХ века [28]. Как показывает работа М. Мид, проблема такой евроцентричности состоит в том, что она оставляет за бортом целую сферу культурного опыта, который — с определенными поправками — и позволяет видеть в паре оппозиций «золотой век»/«трудовой лагерь» не столько «советский», сколько относительно универсальный способ восприятия взросления [29].
При всех своих содержательных и идеологических отличиях, основная модель советского детства, предшествовавшая застою, структурно во многом напоминала практики взросления на Самоа. Вплоть до 1960-х годов советское детство в репрезентациях официальной культуры во многом рисовалось как период врастания в контекст повседневности старших. Как и на Самоа, мучительный выбор подходящей модели взрослой жизни здесь практически отсутствовал. Точнее, там, где мучительность появлялась, связана она была не с выбором правильной модели взросления, а с самим процессом взросления [30]. Обязательность приставки термина «юный» к многочисленным групповым именам — нередко образованным от имен взрослых (ленинец, буденновец, мичуринец и т. п.) — служила одновременно и оправданием некой неполноценности («юный мичуринец» — это еще не вполне мичуринец) и обещанием ее последующего преодоления.
Основой этого процесса взросления являлась, разумеется, идея «трудового воспитания». Модель «дети — это взрослые маленького роста» напрямую проецировалась на профессиональные навыки. Например, в «Пионерской железнодорожной» Д. Прицкера и В. Гурьяна детский мир становился параллельной — хотя и уменьшенной — копией мира взрослого:
Машинисты — пионеры,
Кочегары — пионеры,
И кондуктор — пионер,
И начальник — пионер,
И любой из пассажиров — пионер.
Суть заключалась, однако, не только в воспроизводстве «трудовых навыков» (обучение которым, кстати, на протяжении советской истории отличалось крайней непоследовательностью [31]). Подобное «воспроизводство» вряд ли просуществовало сколько-нибудь долго без соответствующей поддержки того, что Жак Лакан называл «символической функцией» [32]. Антон Макаренко, создатель трудовых колоний для детей и подростков и советских педагогических программ — романных и сугубо идеологических, — отмечал в 1938 году, что «труд без образования, без политического и общественного воспитания не приносит воспитательной пользы, оказывается нейтральным процессом» [33]. Агния Барто вторила в 1941-м: «Я думаю, что трудовое воспитание — это воспитание моральных качеств» [34].
Необходимая символическая связка между трудом и моралью, как известно, была найдена — по крайней мере, на уровне публичной риторики — в идее межпоколенческой солидарности. «Свое» должно было стать еще и «нашим». В этой версии советского детства разница между поколениями, казалось, определялась исключительно возрастом-ростом, а не особенностями индивидуального опыта развития. Дети здесь — это не столько позднесоветские «взрослые в идеале», сколько еще растущие взрослые [35]. Продолжая гражданскую риторику 1920-х, в середине 1960-х годов эта идея естественной эволюции социальных и политических ролей вылилась в формулу, озвученную в пионерской песне: «Сегодня — мы дети / Советские дети / Завтра — советский народ» («Мы завтра — советский народ», сл. К. Ибряева) [36].
Застой 1970-х несколько пошатнул символическую гегемонию этой функции. Однако в сфере официальных ритуалов она сохранила свое господство вплоть до конца советской истории. Например, и официальные кремлевские концерты, и новогодние «Песни года», как правило, содержали номера, в которых детский хор, взрослые солисты и — время от времени — военный хор сливались в едином межпоколенческом порыве.
Более того, на фоне растущего архипелага «утопических островов» образы юных барабанщиков и орлят выглядели особенно отчетливо:
С арфою и лютней
Тише и уютней —
Это нам известно с детских лет.
Но покамест рано
Жить без барабана.
Я его не брошу, нет, нет, нет!
Младшим или старшим
Дробью или маршем,
Мы еще откроем красоту:
Старый барабанщик — на посту!
Основная культурная функция такого подхода — помимо собственно идеологического компонента — заключалась в том, что инсценированная естественность и органичность социально-профессиональной преемственности риторически сводила на нет саму проблему возрастного перехода [37]. Смена поколений оформлялась не столько как обновление, сколько как круговорот групп, занятых одним и тем же делом. Лица могли отличаться, дела оставались прежними [38]. «То, что отцы не допели, — мы допоем! То, что отцы не построили, — мы построим!» — обещали потомки их ушедшим предшественникам в поэме Роберта Рождественского 1962 года (Илл. 2).