Иван Аксаков - Федор Иванович Тютчев
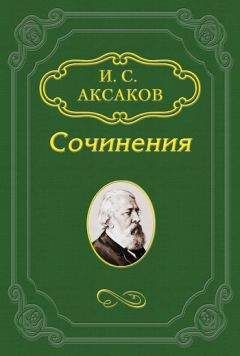
Помощь проекту
Федор Иванович Тютчев читать книгу онлайн
Таким образом, стихотворческой деятельности в России надлежало достигнуть до крайнего своего напряжения, развиться до апогея. Для этого необходимым был высший поэтический гений и целый сонм поэтических дарований. Странным может показаться, почему складывать речь известным размером и замыкать ее созвучиями становится, в данную эпоху, у некоторых лиц неудержимым влечением с самого детства. Ответ на это дает, по аналогии, история всех искусств. Когда, вообще, в духовном организме народа наступает потребность в проявлении какой-либо специальной силы, тогда, для служения ей, неисповедимыми путями порождаются на свет Божий люди с одним общим призванием, однако ж со всем разнообразием человеческой личности, с сохранением ее свободы и всей видимой, внешней случайности бытия. Поэтическому творчеству в новой у нас мерной речи суждено было стать в России на историческую чреду, – и вот, в урочный час, словно таинственной рукой раскидываются по воздуху семена нужного таланта, и падут они, как придется, то на Молчановке в Москве на голову сына гвардии капитан-поручика Пушкина, который уже так и родится с неестественной, по-видимому, наклонностью к рифмам, хореям и ямбам, то в тамбовском селе Маре на голову какого-нибудь Баратынского, то в брянском захолустье на Тютчева, которого отец и мать никогда и не пробовали услаждать своего слуха звуками русской поэзии.
Очевидно, что в этих, равно и в других, им современных, поэтах стихотворство, бессознательно для них самих, было исполнением не только их личного, но и исторического призвания эпохи. В самых мелких своих проявлениях оно уже имеет у них вид какого-то священнодействия. Вот почему оно и отличается от поэтической деятельности позднейшего периода совершенно особым характером поэзии, – как самостоятельного явления духа, поэзии бескорыстной, самой для себя, свободной, чистой, не обращенной в средство для достижения посторонней цели, – поэзии, не знающей тенденций. Их стихотворная форма дышит такой свежестью, которой уже нет и быть не может в стихотворениях позднейшей поры; на ней еще лежит недавний след победы, одержанной над материалом слова, слышится торжество и радость художественного обладания. Их поэзия и самое их отношение к ней запечатлены искренностью, – такой искренностью, которой лишена поэзия нашего времени: это как бы еще вера в искусство, хотя бы и несознанная. Такой период искренности, по нашему крайнему разумению, повториться едва ли может. Вот уже триста пятьдесят лет сряду сотни художников чуть не ежедневно изучают «манеру» Рафаэля; краски усовершенствованы, технические приемы облегчены; но, несмотря на даровитость и горячее усердие этих художников, все их усилия перенять его манеру тщетны и пребудут тщетны; невозможно им усвоить себе ту искренность, то простодушие творчества, которыми веет от созданий Рафаэля, подобно тому, как невозможно человеку XIX века стать человеком XVI… Это не значит, чтоб мы отвергали всякую будущность для искусства. Бесконечное развитие человеческого духа может явить еще новые, неведомые его стороны; может возникнуть новое, высшее единство духа, обретется новая цельность, аналитический процесс мысли разрешится, быть может, в синтезе; наконец, новые народы принесут с собой новые виды художеств. Всего этого мы, конечно, не отрицаем; но мы разумеем здесь известное историческое проявление искусства, и никто не станет спорить, что, например, греческое искусство, оставаясь, по своему значению, бессмертным мировым двигателем в истории человеческого просвещения, тем не менее отжило свой век, как отжила его и сама Эллада. Но возвратимся к судьбе русской поэзии.
Стихотворная форма, сделавшись впоследствии общим достоянием, явилась и богаче и разнообразнее в техническом отношении. Можно привести тысячи новейших стихов несравненно сильнее и звучнее, например, стихов «Евгения Онегина»; но преимущество прелести, – прелести, неуловимой никаким анализом, независимой от содержания, – вечно пребудет за любыми стихами Пушкина и других некоторых поэтов этого, поэтического периода: от них никогда не отымется свежесть формы и искренность творчества, как их историческая печать. Пушкин имел полное право сказать в следующих прекрасных стихах, столько осмеянных новейшей петербургской критикой позитивистской школы:
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
Эти «сладкие звуки» были нужны, были серьезным, необходимым, историческим, а потому в высшей степени полезным делом. Вот чего, в своей близорукости, и не понимает эта критика, неспособная стать на историческую точку зрения, прилагающая к нашим великим поэтам прошлой эпохи мерило злобы нынешнего дня и осуждающая их именно, за то, что они были только поэты, художники, а не политические и социальные деятели в духе новейших, быстро меняющихся доктрин и теорий.
На рубеже этого периода искренности нашей поэзии стоит Лермонтов. По непосредственной силе таланта он примыкает ко всему этому блестящему созвездию поэтов, однако же стоит особняком. Его поэзия резко отделяется от них отрицательным характером содержания. Нечто похожее (хотя мы и не думаем их сравнивать) видим мы в Гейне, замкнувшем собой цикл поэтов Германии. От отрицательного направления до тенденциозного, где поэзия обращается в средство и отодвигается на задний план, один только шаг. Едва ли он уже не пройден. На стихотворениях нашего времени уже не лежит, кажется нам, печати этой исторической необходимости и искренности, потому что самая историческая миссия стихотворства, как мы думаем, завершилась. Они могут быть, они и действительно более или менее талантливы, но или звучат как отголоски знакомого прошлого, уже лишенные прежнего обаяния, или же преисполнены внешних, чуждых искусству тенденций.
Впрочем, при ненормальном ходе русского общественного развития, в виду того, что наше просвещение далеко не выражает жизни нашего народного духа, что не все струны народной души прозвучали, что самая стихотворная наша форма была и есть заемная, – может быть, для русской поэзии еще настанет период возрождения в новой, неведомой доселе, своеобразной, более народной форме. Может быть: это не несомненная надежда, а только гадание.
Стихи Тютчева представляют тот же характер внутренней искренности и необходимости, в котором мы видим исторический признак прежней поэтической эпохи. Вот почему он и должен быть причислен к пушкинскому периоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли в русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали песни Пушкина и прочих наших поэтов, когда время властительства поэзии над умами уже миновало. Десятками лет пережил Тютчев и Пушкина, и весь его поэтический период, но оставался верен себе и своему таланту. Не переставая быть «современнейшим из современников» по своему горячему сочувствию к совершающейся кругом его жизни, он, среди диссонансов новейшей поэзии, продолжал дарить нас гармонией старинного, но никогда не стареющего, поэтического строя. Он был среди нас подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей в его лице, но не допускающей ни повторения, ни подражания.
Отметив эту общую историческую черту его поэзии, перейдем теперь к особенностям его таланта.
Стихи Тютчева отличаются такой непосредственностью творчества, которая, в равной степени по крайней мере, едва ли встречается у кого-либо из поэтов. Поэзия не была для него сознанной специальностью, своего рода литературным Fach (Специальность, профессия, область занятий), как выражаются немцы, общественным, официальным положением или же такой обязанностью, которую и сам поэт невольно признает за собой, признают и другие за ним; напротив, до 1836 года, как уже было сказано, никто в нем и не признает поэта, то есть до той поры, как служивший в Мюнхене князь Иван Гагарин, собрав целую тетрадь его стихотворений, привез ее к Пушкину, и Пушкин дал им место в своем «Современнике», хотя и без подписи полного имени Тютчева. С 1840 года его стихи снова перестают появляться в печати, и такое воздержание от печатной гласности продолжается четырнадцать лет, в течение которых Тютчев не напечатал ни строчки, хотя и не переставал писать. Но как писать? На вопрос: «Над чем вы теперь работаете?» – он не мог бы отвечать, подобно другим: «Пишу стихи: вчера кончил стихотворение к Аглае, сегодня доделаю Огнедышащую гору; имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по профессии. Он священнодействовал, как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облекаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и треволнений; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только записывал. Они не сочинялись, а творились. Они сами собой складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагарин, когда вздумал показать стихи Тютчева Пушкину; но очень может быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. К Тютчеву именно применяются слова гетевского певца:

























