Иван Аксаков - Федор Иванович Тютчев
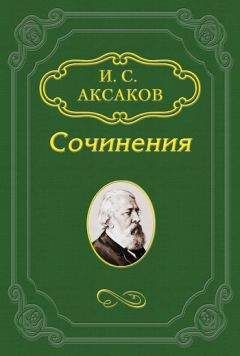
Помощь проекту
Федор Иванович Тютчев читать книгу онлайн
Стихи Тютчева представляют тот же характер внутренней искренности и необходимости, в котором мы видим исторический признак прежней поэтической эпохи. Вот почему он и должен быть причислен к пушкинскому периоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли в русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали песни Пушкина и прочих наших поэтов, когда время властительства поэзии над умами уже миновало. Десятками лет пережил Тютчев и Пушкина, и весь его поэтический период, но оставался верен себе и своему таланту. Не переставая быть «современнейшим из современников» по своему горячему сочувствию к совершающейся кругом его жизни, он, среди диссонансов новейшей поэзии, продолжал дарить нас гармонией старинного, но никогда не стареющего, поэтического строя. Он был среди нас подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей в его лице, но не допускающей ни повторения, ни подражания.
Отметив эту общую историческую черту его поэзии, перейдем теперь к особенностям его таланта.
Стихи Тютчева отличаются такой непосредственностью творчества, которая, в равной степени по крайней мере, едва ли встречается у кого-либо из поэтов. Поэзия не была для него сознанной специальностью, своего рода литературным Fach (Специальность, профессия, область занятий), как выражаются немцы, общественным, официальным положением или же такой обязанностью, которую и сам поэт невольно признает за собой, признают и другие за ним; напротив, до 1836 года, как уже было сказано, никто в нем и не признает поэта, то есть до той поры, как служивший в Мюнхене князь Иван Гагарин, собрав целую тетрадь его стихотворений, привез ее к Пушкину, и Пушкин дал им место в своем «Современнике», хотя и без подписи полного имени Тютчева. С 1840 года его стихи снова перестают появляться в печати, и такое воздержание от печатной гласности продолжается четырнадцать лет, в течение которых Тютчев не напечатал ни строчки, хотя и не переставал писать. Но как писать? На вопрос: «Над чем вы теперь работаете?» – он не мог бы отвечать, подобно другим: «Пишу стихи: вчера кончил стихотворение к Аглае, сегодня доделаю Огнедышащую гору; имею намерение обработать в стихах такой-то сюжет». Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по профессии. Он священнодействовал, как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облекаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и треволнений; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были плодом труда, хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только записывал. Они не сочинялись, а творились. Они сами собой складывались в его голове, и он только ронял их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. Если же некому было припрятать к месту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нередко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагарин, когда вздумал показать стихи Тютчева Пушкину; но очень может быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. К Тютчеву именно применяются слова гетевского певца:
Ich singe wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet;
Das Lied, das aus der Kehle dringt,
Ist Lohn, der reichlich lohnet.[1]
В самом деле, в чем же состояла награда, Lohn, певца Тютчева, во время его 22-х летнего пребывания за границей, как не в самой спетой песне, никем, кроме его, не слышимой? Условием всякого преуспеяния таланта считается сочувственная среда, живой обмен впечатлений. А Тютчеву четверть века приходилось петь как бы в безвоздушном пространстве. Когда читаешь, например, его стихи, писанные к первой жене и к другим иностранкам, ни слова не знавшим по-русски, да едва ли подозревавшим в нем поэта, невольно спрашиваешь себя: для чего же и для кого он писал? Уже гораздо позднее, в России, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за ним и подбирать лоскутки с его стихами, а иногда и записывать стихи прямо под его диктовку. Так однажды, в осенний дождливый вечер, возвратись домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» (я сочинил несколько стихов), и пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение:
Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной…
Здесь почти нагляден для нас тот истинно-поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самой музыкальностью своей, воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя… И все это в шести строчках!
Еще более объяснится нам характер его поэтического творчества, когда мы припомним, что этот человек, по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски. А между тем стихи у Тютчева творились только по-русски. Значит, из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека… Здесь кстати привести то, что сам Тютчев высказал уже в 1861 году, в стихах на юбилей князя Вяземского, по подводу «музы» этого замечательного в своем роде поэта:
Давайте ж, князь, поднимем в честь богини
Ваш полный пенистый фиал,
Богине в честь, хранившей благородно
Залог всего что свято для души,
Родную речь…
Тютчев мог еще с большим основанием обратить это воззвание к своей собственной музе.
Само собой разумеется, что при подобном процессе творчества Тютчев не способен был ничего творить в обширном размере. Поэтому самые лучшие его стихотворения – короткие; они цельны, словно отлиты из одного куска чистого золота. В его таланте, как уже и замечено было нашими критиками, нет никаких эпических или драматических начал. Его поэзия, как выразились бы немецкие эстетики, вполне субъективна; ее повод – всегда в личном ощущении, впечатлении и мысли; она не способна отрешаться от личности поэта и гостить в области вымысла, в мире внешнем, отвлеченном, чуждом его личной жизни. Он ничего не выдумывал, а только выражался. Он не был тем maestro, тем художником-хозяином в поэзии, каким, например, является Пушкин, этот полновластный распорядитель звуков и форм, разнообразно направлявший силы своего гения по указанию своей свободной поэтической воли, умевший творить не одним мгновенным наитием вдохновения, но и медленным вдохновенным трудом. Да и у всех поэтов, рядом с непосредственным творчеством, слышится делание, обработка. У Тютчева деланного нет ничего: все творится. Оттого нередко в его стихах видна какая-то внешняя небрежность: попадаются слова устарелые, вышедшие из употребления, встречаются неправильные рифмы, которые, при малейшей наружной отделке, легко могли бы быть заменены другими.
Этим определяется и отчасти ограничивается его значение как поэта. Но это же придает его поэзии какую-то особенную прелесть задушевности и личной искренности. Хомяков – сам лирический стихотворец – говорил и, по нашему мнению, справедливо, что не знает других стихов, кроме тютчевских, которые бы служили лучшим образом чистейшей поэзии, которые бы в такой мере, насквозь, durch und durch, были проникнуты поэзией.
(Вот, между прочим, что писал Хомяков из Москвы в Петербург, Александру Николаевичу Попову, в 1850 году: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли молчать, когда бог дал такой голос? Если он вздумает оправдываться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дело. Без притворного смирения, я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозатор везде проглядывает и, следовательно, должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (durch und durch), у него не может иссякнуть источник поэтический. В нем, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к художеству…»)

























