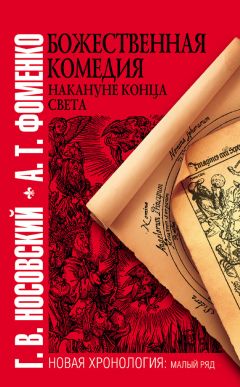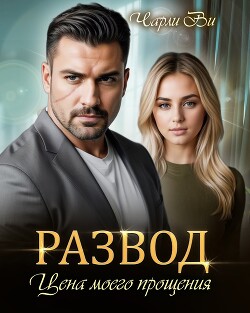Майя Каганская - Мастер Гамбс и Маргарита

Помощь проекту
Мастер Гамбс и Маргарита читать книгу онлайн
Разумеется, и в Москве бывает сыро и холодно, но городской пейзаж, созерцаемый Воробьяниновым, есть трафаретный ландшафт Петербурга Х1Х-го века: "луна... мокрые решетки... газовые фонари... тревожно светились...". Название пивной "Орел" прямо указывает не только на герб империи, но и на "мертво-пьяного в шинели" из "Преступления и наказания": герб с шинельной пуговицы перекочевал на вывеску советской забегаловки, переехавшей из классического петербургского романа в Москву.
Загадка столь явной и неожиданной стилизации позволяет отгадать тревожащую столь многих читателей судьбу Кисы Воробьянинова, брошенного авторами на исходе душераздирающего крика: покончил с собой, как и Свидригайлов, после разговора с ночным сторожем. На что есть недвусмысленное указание в тексте: "Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце". "Гранит", "камень" - такие же детали поэтики Петербурга, как "мокрые решетки" и "газовые фонари". Следовательно, крик Воробьянинова, "бешеный, страстный и дикий, — крик простреленной навылет волчицы", — не метафора, а последний крик застрелившегося человека.
Что в имени тебе моем?
Отметив и запомнив внезапное вторжение имперской столицы в советскую, стилизации — в пародию и розыгрыш, психологического романа — в роман-фельетон, помедлим с объяснением и почтим память прирезанного Остапа вниманием к его имени. Оно — тоже цитата.
Для русского литературного сознания имя "Остап" имеет только один источник: повесть Н.В.Гоголя "Тарас Бульба". Что авторы, дабы окрестить героя, заглядывали именно в этот именник, доказывается математически: фамилия Остапа — Бендер-Задунайский, то есть "Запорожец за Дунаем" ("Бендер", ясное дело от Бендер, кои в Молдавии, коея, как известно, принадлежала некогда Турции). Итак, мы опять заходим в тыл Оттоманской империи с самой бы, казалось, неожиданной стороны. Впрочем, не столь уж неожиданной, если вспомнить апофеоз жизни гоголевского персонажа — его мученическую смерть: "И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: "Батько! где ты? Слышишь ли ты?". "Слышу!" раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул". Какой текст просвечивает сквозь гоголевский, — в объяснении не нуждается: "Отче! Отче! зачем ты меня оставил?!".
Итак, русская классика подтверждает сакральное происхождение фельетонного героя, авторы же поддерживают эти притязания четвертым из его имен: Остап - Сулейман - Берта-Мария. Что касается "Берты", то мы ее пока приберегаем, как ружье в первом акте, которое в свой срок и черед оглушительно выстрелит. Ныне же другие персонажи загромождают авансцену и просятся в главные, первый из них — жанр, в сомнительном пространстве которого разыгрываются все эти цитатные намеки, аллюзии и стилизации.
Скверный анекдот
История литературы нас учит, что фельетон произрос из анекдота; в нашем конкретном случае логично предположить: из одесского анекдота. В одесском анекдоте как будто есть все, чем жив ильфопетровский фельетон: евреи, острый сюжет в паре с хулиганской фабулой, тайный жар сатиры и даже Христос. Одного только, но самого для нас важного, нет в одесском анекдоте — литературы. А в романах Ильфа и Петрова действительность настолько поражена литературой, что сама стала формой ее существования, прямо не действительность, а какой-то, говоря словами Ильфа, "Советский чтец-декламатор". Вот если смотреть на жизнь глазами Ильфа с Петровым, то есть как на способ существования литературных текстов, существенным моментом которого является обмен цитатами с окружающей средой, — тогда окажется, что литературе есть место и в одесском анекдоте.
Место это — в скверике против одесского Оперного театра. Там, много (но не слишком) лет назад, авторы этого правдивого повествования с восторгом созерцали единственный памятник анекдоту в виде анекдотического памятника из черного мрамора. Памятник изображал бюст одесского губернатора графа Воронцова, гордо вознесенный на постаменте и воздвигнутый благодарной городской думой, о чем и сообщала надпись с золотом, ятями, ерами и точками над всеми "I". После победы исторического материализма с городской головой что-то случилось, отчего на задней стороне памятника, золотым по черному и новой грамотой выбили злобную пушкинскую эпиграмму на нелюбезного поэту администратора:
Полу-милорд. Полу-купец.
Полу-глупец. Полу-невежда.
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.
Так и стоит этот памятник неизвестно чему. Подлецу? Пушкину? Одесскому юмору? Мы лично считаем — литературному приему. Если мир — это памятник литературы, сатира в нем может быть только пародией. Пародирование или пародийное цитирование текстов в романах Ильфа и Петрова не служебно, а тотально. Оно не только не мотивировано романной фабулой, но образует свои собственные фабульные циклы, например, — лермонтовский:
"В песчаных степях аравийской земли три гордые
пальмы зачем-то росли".
"На вас треугольная шляпа, — резвился Остап, — а где же ваш серый походный пиджак?". В финале "12 стульев" Остап, как мы знаем, уже не резвится, а лежит с перерезанным горлом. Возможно, именно смерть любимого героя привела к тому, что действительность выступила в романе в своем истинном, неприглядном свете — стилизации. Если же учесть, кто и что было стилизовано, — одесский анекдот превращается в "скверный": петербургская муть Свидригайлова тянет за собой тему недоброго Бога и вечности с пауками по углам, иными словами, вечные вопросы: Зло — Добро, скоротечность — вечность, Бог — Дьявол.
Маскарад
Таким вопросам самое место у Булгакова ("— Так кто же ты? — Я часть той силы, что...").
И Достоевскому у Булгакова самое место — не так много метафизиков в русской литературе, чтобы один великий мог обойтись без другого.
Первым делом, понятно, обнаруживаются "Бесы": пожар в Скотопригоньевске — пожары в Москве; обгоревший труп барона Майгеля — обгоревшие трупы Лебядкина и его сестры, и, наконец, сами "бесы", Других следов Достоевского, как ни странно, в романе Булгакова нет. Впрочем, есть еще один:
"— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен".
О, как соблазнительно увидеть в булгаковской достоевщине метафизический разгул, утягивающий в свой водоворот историю болезней века, мировой пожар, гибель и обновление, то есть чаемую смесь Апокалипсиса с обетованием... Евангелие так Евангелие, черт возьми! Но мы, вкусившие однажды сладкий плод-баккурот, продолжаем думать, что Булгаков — не в пример Достоевскому и отцам церкви — был озабочен спасением текста не менее, чем души.
"... чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было!".
Ясно, что речь идет не о бессмертной личности Достоевского, но о бессмертии его текстов.
Наши современники расходятся во мнениях: если одни считают, что Булгаков хотел написать мистический трактат, то вторые убеждены, что он его написал. Что же касается досадного подзаголовка — роман, тут спорящие едины: романная форма не более, чем маска; меняются времена — меняются маски: современников Ешуа легче было пронять притчей. Согласимся мы с теми или с другими — положение не изменится: претензии надлитературного характера у Булгакова, несомненно, были. Но, странное дело, чем пристальней и бескорыстней мы вчитываемся в роман, тем очевидней из-за демонологии выглядывает литература. Именно литература образует самый зашифрованный и глубинный слой. Маска оказывается лицом.
Другое дело Ильф и Петров. Их литературные игры так публичны и безыскусственны, что обнаруженная нами стилизация под Достоевского видится как художественный провал. Но что же тогда образует глубинный слой их романов, да и есть ли он там вообще? Ведь не будь Булгакова, нам бы и в голову не пришло увидеть в Остапе Бендере нечто большее, чем "порождение того времени, когда капитализм ликвидирован в своих основах, но социализм еще не победил окончательно". Что же произошло в этом литэкономическом промежутке?
"— Нам повезло, Киса, — сказал Остап, — ночью шел дождь, и нам не придется глотать пыль. Вдыхайте, предводитель, чистый воздух. Пойте. Вспоминайте кавказские стихи. Ведите себя как полагается!..
Но Ипполит Матвеевич не пел и не вспоминал стихов.
Опять идти! На этот раз в Тифлис, на этот раз по красивейшей в мире дороге. Ипполиту Матвеевичу было все равно. Он решительно не замечал Терека, который начинал уже погромыхивать на дне долины. И только сияющие под солнцем ледяные вершины что-то смутно ему напоминали: не то блеск брильянтов, не то лучшие глазетовые гробы мастера Безенчука."