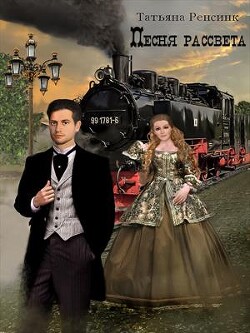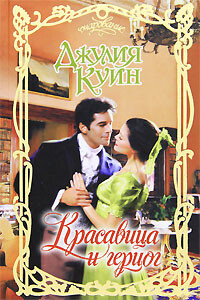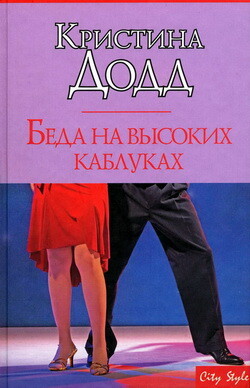Журнал Современник - Журнал Наш Современник 2005 #8

Помощь проекту
Журнал Наш Современник 2005 #8 читать книгу онлайн
"Переводчица и литературовед В. А. Дынник, жена Ю. М. Соколова, вспоминала: "Как-то Юр(ий) М(атвеевич) пришел домой и с радостной улыбкой сообщил мне, что сегодня вечером Клюев будет у нас читать свою поэму. Собралось несколько человек, друзей. Клюев стал читать. Это была поэма (довольно большая) "О кружевнице…". Читал предельно просто, но все были словно заколдованы. Я считаю, что совершенно свободна от всяческих суеверий, но на этот раз во мне возникло ощущение, что передо мною настоящий колдун… (…) Колдовство исходило от самого облика поэта, от его простого, казалось бы, чтения. Повеяло чем-то от "Хозяйки" Достоевского" [1, с. 237].
Б. А. Филиппов, повествуя о судьбе этой "замечательной поэмы о затравленной и убиенной Руси наших дней", писал в 1969 году: "Поэма ходила в списках по рукам, выучивалась наизусть. Ходит она в списках по рукам и сейчас, как об этом рассказывает в своих воспоминаниях (1958 года) кн. Зинаида Шаховская" [11, с. 144].
В советской России распространителей "контрреволюционной" поэмы отправляли в Нарым еще до того, как сослан был в те края ее автор [см. об этом: 1, с. 238].
Клюева арестовали и этапировали в Колпашево в 1934 году, однако судьба его "опальной музы" была предрешена, и образ ссыльного поэта складывался и обрастал легендами уже в конце 1920-х годов. Тогда, как вспоминал В. Т. Шаламов, "с уважением произносилось имя Николая Клюева — одаренного поэта, волевого человека, оставившего след в истории русской поэзии двадцатого века. (…) во второй половине двадцатых годов он уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском армяке с иконой на груди" (журн. "Юность", 1987, № 12, с. 33).
Правда, в это время Клюев посещал тех своих собратьев по перу, которые уже были сосланы. "Поэт Иван Елагин рассказывает, что в 1928 году Клюев посетил в Саратове высланного туда литератора, поэта и журналиста, отца Елагина — Венедикта Николаевича Матвеева, писавшего под псевдонимом Март. В. Март устроил литературное выступление Клюева в одном частном доме. Клюев читал, пел раскольничьи песни, песни свадебные, обрядовые, радельные. Как свидетельствует Иванов-Разумник, единственным источником существования Николая Алексеевича стало теперь именно это чтение произведений, главным образом новых, — на дому у знакомых" [11, с. 143].
"Не раз посчастливилось мне видеть у себя и у Всеволода Александровича (Рождественского) Николая Алексеевича Клюева, — пишет В. А. Мануйлов. — Он был великолепным рассказчиком. Запомнился обед у Рождественских двадцать девятого марта (1928 года), когда Клюев рассказывал свою любимую сказку про кота Евстафия и пел стихи о Ваське. Он вспоминал очень живо о встречах с Горьким и Шаляпиным, говорил о древнерусской живописи и архитектуре, о русских храмах" (М а н у й л о в В. А. Записки счастливого человека. СПб., 1999, с. 275).
* * *Любимая сказка Клюева неизменно захватывала слушателей, и многочисленные свидетельства мемуаристов позволяют прийти к выводу, что содержание ее варьировалось. Поэт импровизировал: в сказку проникали новые имена, менялись и детализировались роли персонажей. Менялось и восприятие сказки — в зависимости от времени и обстоятельств. "Неподражаемый тонкий юмор" рассказчика мог вызвать безудержное веселье аудитории, но мог и навести на грустные размышления. Под впечатлением этой сказки, скорее всего, написано было А. Ширяевцем одно из стихотворений для детей "Кот Евстафий": "Жил-был кот Евстафий. / Держал мышей в страхе. / Был до них охоч он / Днем и ночью…". Но если в начале 1920-х годов клюевская сказка могла вдохновить на создание смешного детского стихотворения, то в 1930-е годы, в Томске, слушателям мерещились "чекистские погоны" на коте Евстафии (И л ь и н а В., З а п л а в н ы й С. Неистовый Ростислав: Повесть о любви. Томск, 1996, с. 158).
К. М. Азадовский цитирует отрывок из воспоминаний В. А. Баталина, пытавшегося воссоздать по памяти, как Клюев представлял своего "Кота Евстафия":
"Он при этом как-то "вдруг" преображался; казалось, на стуле сидел уже не Клюев, а древняя олонецкая бабка. Жамкая и окая, она начинала с чуть уловимыми жестами рук:
— Слухайте, бабы-молодицы, красны девицы, и вы, парни-красавцы, сидите смирно на лавцах, девок да баб не замайте — моому рассказу внимайте.
В Заозерье, у Марьи Щербатой, что на угорье живет, возле попова дома, был, жоланные, кот. Большущой, белущой — Остафьем прозывался. И такой этот кот, жоланные, был премудрой и обходительной, что, бывалыча, ни сметаны в крынке, ни молока в кунгане у Марьи ни за что не тронет, но и не понюхат… А чем же, спрашиватся, жил тот кот? — Известно, чем коты-те живут: мышами питался".
Далее рассказывалось о том, как кот Евстафий, прикинувшись, что "скоромного не вкушат", в конце концов "схрумкал" мышку Степанидку всю до последней косточки" [1, с. 250].
Только ли для забавы слушателей Клюев так часто рассказывал свои чудесные сказки, перевоплощаясь при этом в олонецкую бабку? В 1922 году он говорил Н. И. Архипову: "Наша интеллигенция до сих пор совершенно не умела говорить по-русски; и любая баба гораздо сложнее и точнее в языке, чем "Пепел" Андрея Белого". "Родное, громное слово" — в великом и малом, в потешном и трагичном — свидетельствовало устами Клюева о "самоцветной крови" крестьянской культуры. И не случайно действие сказки происходит "в Заозерье"; это тот же чудесный мир, куда уводит слушателей поэт "сквозь бесформенные видения настоящего" (как в поэме "Заозерье") — мир Слова живого.
* * *"Чувствую, что я, как баржа пшеничная, нагружен народным словесным бисером. И тяжело мне подчас, распирает певческий груз мои обочины, и плыву я, как баржа, по русскому Ефрату — Волге в море Хвалынское, в персидское царство, в бирюзовый камень. Судьба моя — стать столпом в храме Бога моего и уже не выйти из него, пока не исполнится всё" — так сказал Клюев в 1924 году, предчувствуя свой крестный путь и твердо веруя в бессмертие Слова. В самом начале 1920-х годов он уже предсказал свой конец и судьбу своих "клюевословов": "Я взгляну могильной берёзкой / На безбрежье песенных нив, / Благовонной зеленой слёзкой / Безымянный прах окропив"; "По голгофским русским пригоркам / Зазлатится клюевоцвет"; "В избе же клюевословы / Мерят зарю-зипун".
Клюев мало рассчитывал на понимание со стороны современников — как старшего поколения, так и "октябрьских яростных дичков", и не только по причине политических разногласий. Главная "идеологическая ущербность" Клюева заключалась в его понимании слова. Показательна в этом отношении высказанная поэтом в середине 1920-х годов оценка творчества Н. Тихонова: "… довольствуется одним зерном, а само словесное дерево для него не существует. Да он и не подозревает вечного бытия слова". — "Мой же мир: Китеж подводный, там всё по-другому"; "Мой же путь — тропа Батыева ко стенам Града невидимого".
Для Клюева главным требованием к поэтическому слову была его укорененность в "пододонных" глубинах живой речевой стихии. Поэтому он так высоко ценил Мандельштама, называл Ахматову "китежанкой", а о Кузмине говорил: "…вновь учуял, что он поэт-кувшинка, и весь на виду, и корни у него в поддонном море, глубоко, глубоко". Себя же самого Клюев неизменно уподоблял "древу": "Я — древо, а сердце — дупло, / Где Сирина-птицы зимовье"; "А я обнимусь с корнями / Землею — болезной сестрицей"; "И пал ли Клюев бородатый, / Как дуб, перунами сраженный, / С дуплом, где Сирин огневейный / Клад стережёт — бериллы, яхонт?..".
Клюева-человека всё более заслонял Клюев-поэт, и здесь уже не могло быть места вопросам: где кончается "притворство" и начинается "подлинность", — в подлинности его живого "словесного дерева" невозможно было сомневаться. По свидетельству П. Н. Лукницкого, Анна Ахматова в 1926 году "сказала, что Клюев, Мандельштам, Кузмин — люди, о которых нельзя говорить дурное. Дурное надо забыть" (сб. "Воспоминания об Анне Ахматовой", М., 1991, с. 157). Истинный поэт не может быть предметом обывательских рассуждений и осуждений. Внешняя, событийная ткань его жизни, доступная рассмотрению, не имеет отношения к тому миру, где "всё по-другому". Возможно, поэтому писать мемуары о Клюеве даже и не пытались те, кто ближе его знали и лучше понимали.
* * *Становясь всё более независимым от времени и от собственной судьбы, "песнописец Николай" был тем не менее связан со своей современностью теснее многих других. Он всегда находился в самой гуще культурной жизни, общался со многими прославленными деятелями искусства; следил за литературными новинками, встречался с начинающими писателями, выступал перед молодежью. Клюев любил и умел учить поэтическому мастерству. Есенин неоднократно и в разное время признавал это; даже в последние свои дни говорил В. Эрлиху: "Как был он моим учителем, так и останется". Одного этого уже было достаточно, чтобы привлечь к опальному поэту самый пристальный интерес молодого поколения.