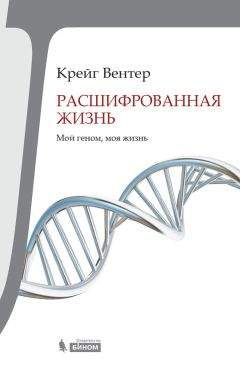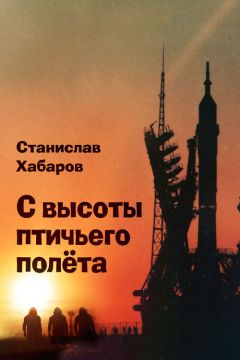Александр Архангельский - Эффект бабочки
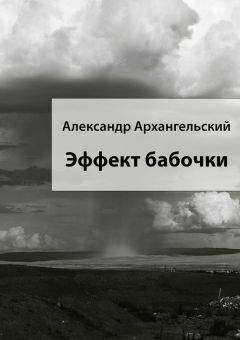
Помощь проекту
Эффект бабочки читать книгу онлайн
Характерно, что среди неформальных лидеров протеста к сегодняшнему дню осталось очень мало старых, опытных бойцов, вытесненных из реальной политики путинским режимом. Да, в центре внимания были Сергей Удальцов и Геннадий Гудков. Да, некоторые митинги вел Владимир Рыжков. Да, умный политический игрок Навальный время от времени выходил из тени и оказывался в центре внимания. Но именно он вовремя для себя осознал, что лозунг «партия жуликов и воров» сработал не на демонтаж системы, а на консолидацию «морального меньшинства». Которое не собирается идти на штурм Кремля и не готово устраивать бессрочную оккупацию какой-то территории, по образцу площади Тахрир или Майдана. Максимум, на что оно готово, – подежурить несколько ночей на «ОккупайАбай», летом, после чего расходится по домам. А значит, время истинных борцов еще не пришло; под покровом протестных акций происходит нечто иное, важное, но с претензией на власть пока не связанное. Если чересчур активно включиться в сиюминутные акции, можно растратить впустую свой долго копившийся ресурс, замылиться, примелькаться, а настоящий бой еще впереди.
Так что вряд ли Навальный в тот момент сожалел о сохранении персонального запрета на появление в эфире федеральных каналов (хотя туда допустили и Рыжкова, и Немцова, и даже Удальцова). Сохранение запрета, во-первых, подтверждало его особый масштаб, роль истинного врага, которого режим все сильнее боится, и, во-вторых, он не распылял свой образ раньше времени, до перехода событий в следующую фазу, собственно политическую. И опять же, недаром Навальный был так заметен на «Марше миллионов» 6 мая, от участия в котором воздержались многие гражданские вожди «культурной недореволюции» и который был именно актом политической борьбы с революционным подтекстом. Гарантированно провалившимся, как все собственно политические начинания последнего времени.
При этом действующая власть относится к происходящему именно как к первой фазе политической (не культурной) революции; той фазе, остановив которую можно победить движение в целом и не допустить краха системы. Об этом говорит и знаменитая «слеза Путина» во время митинга на Манежной площади. И целый ряд последующих акций, от обысков у Ксении Собчак с изъятием наличных денег в сумме миллиона евро, до подготовки к аресту Сергея Удальцова и некоторых других лидеров протеста. И рассмотрение пакета законов, потенциально ограничивающих свободу распространения информации в Интернете. Но в реальности – на данный момент – нет ни малейших признаков того, что протест разрастается, захватывает новые территории, привлекает новых людей24. Более того, если бы не давление власти, которое порождает встречную энергию сопротивления, масштаб этого самого протеста был бы еще меньше.
Значит ли это, что все происходившее в 2011—2012 годах было напрасной тратой социальных сил, выхлопом в пустоту? Нет. Просто смысл этих событий лежит в другой плоскости. Не в плоскости большой политики, а в плоскости социокультурной. Смыслом была самоорганизация морального меньшинства, самых разных идеологических направлений и групп; самопрезентация нового гражданственного поколения; и все практики и решения, направленные на эту цель, вплоть до избрания самодеятельного Координационного совета в Москве, – удались. А главным успехом стало не свержение ненавистного строя, а массово проявленная солидарность с жертвами наводнения в Крымске или марш против «закона подлецов», запретившего американцам усыновлять российских детей; самоотверженное волонтерство было теснейшим образом связано с накопленным за время протестов опытом гражданского солидаризма и сочувствия попавшим в беду.
Если посмотреть на то, какие сюжеты были ключевыми для участников протестов, какие лидеры возглавили его, в глаза бросится одно обстоятельство. А именно: все эти сюжеты и все эти лидеры связаны с идеей правды, с принципом морального авторитета, но не с принципом борьбы за власть. Кто формулировал цели шествий? Писатель Борис Акунин. Кто вел переговоры с московскими властями о маршрутах? Издатель и журналист Сергей Пархоменко. Кто гарантировал, что добровольные пожертвования на шествия и митинги не будут растрачены попусту? Журналист Ольга Романова. Кто организовывал сопровождение митингов оборудованной сценой, профессиональной музыкой, аппаратурой? Шеф-редактор объединенной компании «Рамблер-Афиша» Юрий Сапрыкин. Кто организовал трансляции заседаний оргкомитета? Главный редактор журнала «Большой город» филолог (и внук религиозной диссидентки, сиделицы Зои Крахмальниковой) Филипп Дзядко, во многом именно за это он поплатился вскоре своей должностью. Кого из ораторов на митингах встречали теплее других? Писательницу Людмилу Улицкую и писателя Дмитрия Быкова, журналиста Леонида Парфенова, музыканта Юрия Шевчука. И так далее. То есть в центре квазиполитического процесса были люди, неоднократно заявлявшие о том, что политическая карьера в их жизненные цели не входит, и сосредоточенные на гражданском солидарном действии.
В этом, разумеется, есть и опасность; заключается она отнюдь не только в том, что система сохраняется в неприкосновенности и ее репрессивный потенциал лишь нарастает. Есть вещи не менее важные. Последний раз гражданские активисты с гуманитарным бэкграундом массово выходили из тени на рубеже 1980—90-х, что было связано с приближающимся распадом СССР, крахом всех прежних институтов и отсутствием новых. Вакуум могли заполнить только те, за кем не тянулся шлейф партийного опыта, те, кто обладал личной легитимностью и с ее помощью склеивал разорванное государственное тело. Именно тогда филологи-академики Д. С. Лихачев, С. С. Аверинцев, Вяч. Вс. Иванов, публицист Юрий Карякин, режиссер Марк Захаров и многие другие стали временно исполняющими обязанности лидеров. И лишь после того, как собственно политический лидер Борис Ельцин накопил силы, отслоился от своей обкомовской биографии и стал ассоциативно связываться с академиком Сахаровым и борцами за свободу, а не с партийной номенклатурой, – гуманитарный десант в политику начал слабеть и очень быстро был сдвинут в тыл. Исключения штучны и нехарактерны (знаменитый историк литературы Мариэтта Чудакова и ее немногочисленные коллеги).
Такое происходило тогда повсеместно; именно с писательских съездов в Эстонии, на Украине и в Молдавии началась необратимая дезинтеграция СССР; переводчиками были первые президенты Эстонии и Грузии Леннарт Мери и Звиад Гамсахурдиа, этнографом и переводчиком – первый президент сепаратистской Абхазии Владислав Ардзинба; трудно преувеличить роль, какую сыграли в истории распада империи профессор вильнюсской консерватории Витаутас Ландсбергис, национальные писатели Иван Драч, Чабуа Амирэджиби и другие представители гуманитарной интеллигенции, заместившей собою отсутствующую политическую элиту. Даже один из участников террористических операций чеченских боевиков (и впоследствии руководитель полунезависимой Ичкерии) Яндарбиев был поэтом и при советской власти успел выпустить книжку в издательстве «Молодая гвардия» под названием «Сажайте, люди, деревца!». И всюду они либо разминали почву для жестких и амбициозных политиков, которые за их спинами проходили во власть и брали ее, оттесняя гуманитариев, либо сами становились этой жесткой властью и забывали о гуманитарных ценностях. Едва ли не единственное исключение – Чехия с писателем Вацлавом Гаве– лом во главе, но даже Гавел не удержался от термина «гуманитарная бомбар– дировка».
Парадоксальным образом именно в эти годы общим местом литературной публицистики стали рассуждения о завышенном статусе русской литературы («Поэт в России больше, чем поэт») как о явлении исчерпанном и завершенном; именно потому, что у нас не было свободного парламента, независимой церкви, открытой университетской кафедры, самостоятельной философии – словесность вынуждена была исполнять несвойственные ей функции и быть чем угодно – проповедью, исповедью, национальной формой философии, политическим клубом. А теперь все это безобразие позади, теперь мы освободим литературу от несения общественной службы, говорили люди, словно бы не замечавшие, что, кроме литераторов, историков и режиссеров, им вообще некого предъявить истории и политике.
Прошло четверть века. И словно в насмешку над этими иллюзиями именно беллетрист (то есть автор развлекательных романов) Акунин становится голосом гражданского протеста; он ведет за собой «рассерженных горожан» на прогулку – придумав и обосновав этот социально-поведенческий жанр. И от какой символической точки к какой символической точке ведет он своих последователей? От памятника Пушкину на Страстном бульваре к памятнику Грибоедову на Чистых прудах. А лозунги, которые несут участники прогулки, обличают несвободный парламент, зависимую церковь, недофинансированный университет.