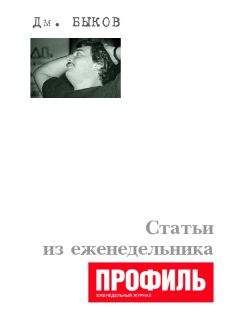Дмитрий Быков - Карманный оракул (сборник)

Помощь проекту
Карманный оракул (сборник) читать книгу онлайн
Я для того так подробно перечисляю этих последователей русского религиозного романа, чтобы нагляднее показать упущенные нынешней Россией возможности. Даже советская проза – не говоря уж о поэзии – больше и напряженнее размышляла о Боге. Один мой старшеклассник заметил, что «Пикник на обочине» Стругацких – именно о том, как Бог посетил: ведь и нам от него что-то осталось – словарь, например, – и вот мы пытаемся из него что-то собрать, хотя по большей части забиваем гвоздь микроскопом. Не знаю, имели Стругацкие в виду именно такое толкование или нет, но мне оно нравится. Герои Трифонова в своем обезбоженном быте тоже не случайно через слово повторяют «бог ты мой». Аксенов закончил «Ожог» вторым пришествием, а в «Скажи изюм» ввел архангела Михаила, и никакой безвкусицы, по-моему, от этого не проистекло (равно как и в киноромане Панфилова «Жанна д’Арк»).
Современные же российские авторы пишут на религиозные темы так, словно сдают экзамен, будучи заранее уверены в недоброжелательности экзаменатора; пишут так, словно это вообще не их проза, словно от степени их послушания и богобоязненности зависит их будущая участь, не только небесная, но и земная. Страшно сказать, за последние десять лет в России появились два религиозных романа, оба написаны фантастами: «Мой старший брат Иешуа» Андрея Лазарчука (с попыткой строго исторически взглянуть на Евангелие) и «Сад Иеронима Босха» Тима Скоренко; соответственно оба романа – неровных, но весьма значительных – замечены только в просвещенной, но узкой прослойке фанов. Скоренко талантлив, но роман его, написанный от лица Творца, кажется мне уж очень подростковым, сэлинджеровским, прямолинейным. Лазарчук – признанный классик жанра, но согласиться с его версией мне мешает то ли вкус, то ли душа. Тем не менее обе книги значимы и в каком-то смысле прорывны – иное дело, что кроме них назвать нечего. Роман, где ставились бы последние вопросы, где описывалось бы духовное перерождение героя, в которого ударила молния внезапного откровения, в современной России попросту немыслим: для такой книги требуется дерзость, поскольку посещение Бога – не визит вежливости. «Сивилла – выжжена, Сивилла – ствол: // Все птицы вымерли, но Бог вошел» – эта цветаевская формула словно не услышана никем. «Воскресение» Толстого – главный и лучший русский религиозный роман – послужило поводом для отлучения автора от церкви, и многие до сих пор не могут простить Толстому страниц о причастии (первое полное и научное издание «Воскресения» вышло в ПСС в 1936 году – до того полных версий в России НЕ БЫЛО!). Но давайте вспомним сюжет романа: жертва Нехлюдова, ТАК глядевшего на церковь, не была принята, и во второй, ненаписанной книге романа Толстой предполагал описать разочарование и падение Нехлюдова (но вместо того написал «Отца Сергия»): в этом втором томе Нехлюдов должен был оказаться в коммуне среди толстовцев, разочароваться в ней, пережить грехопадение (не с Катюшей) и уйти. Господи, кто бы взялся написать этот роман и назвать его, естественно, «Понедельник»! (А ведь именно в понедельник свет был отделен от тьмы!) Но этого мы, вероятно, не дождемся – ведь для такого романа, помимо метафизической и обычной литературной дерзости, требуется отличное знание реалий русской жизни 1900-х годов и знание Библии, что еще труднее.
Есть ли у нас религиозная литература? Есть замечательный «Современный патерик» Майи Кучерской, но это все-таки не роман; есть «Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова, и они даже выдвигались на «Большую книгу», но какая же это, товарищи, предсказуемая литература! Разумеется, она лучше современных апокрифов или статей в журнале «Фома», рассказывающих о том, как автору / герою плохо было без Бога, а с Богом стало хорошо; но история о том, как Сергею Бондарчуку резко полегчало после удаления из его комнаты портрета Льва Толстого, – это, как хотите, писательская ревность. Истории о чудесах вроде уцелевшего во время пожара престола, на котором лежали Святые Дары, жизнеописания кротких незлобивцев, чудаковатых, но просветленных старцев, легкие попинывания интеллигенции – вот, Андрей Битов так и не собрался съездить к святому старцу, о чем его просила во сне покойная матушка… (Да в любом тексте Битова, простите тысячу раз, больше благодати, чем во всем томе Шевкунова!) Архимандрит Тихон Шевкунов умеет писать – чего и ждать от выпускника сценарного факультета ВГИКа, ученика великого Евгения Григорьева; чего он не умеет, так это сделать написанное литературой, но что для этого надо, так просто не сформулируешь.
Богоискательство – вечная тема прозы, в том числе и советской, вспомним хоть замечательного «Бога после шести» («Притворяшки») Михаила Емцева, повесть, потрясшую меня в детстве, да и теперь не отпускающую. Но чтобы писать такую прозу – и в те, и в нынешние времена, – нужно дерзновение, без которого настоящая литература вообще не делается. У нас же получается либо сусальный рассказ о юноше / девушке, не находивших покоя и даже коловшихся, но тут вдруг подсевших на веру, то есть гораздо более толстую иглу, – либо подростковое богоборчество, основанное на незнании элементарных вещей. Диалога с великими текстами, а если повезет, то и с их вдохновителем, современный российский писатель не позволяет себе в принципе. Почему? Боится дурновкусия? Но дурновкусие возникает там, где говорят, не зная, или довольствуются чужими рецептами. Опасается реакции нового идеологического отдела? Но если с советской цензурой умудрялись как-то взаимодействовать, неужели не научатся обходить православную госцензуру? Боюсь, все гораздо печальнее: «Господи, как увижу тебя, если себя не вижу?» – вопрошал Блаженный Августин в лучшем религиозном романе воспитания, какой я знаю, а именно в «Исповеди». Со взгляда на себя начинается поиск Бога, богопознание немыслимо без самопознания – но кто у нас готов трезво увидеть себя? (Один Лимонов – хотя в его гностицизм подмешана изрядная толика самовосхищения; но это хоть что-то – правда, не столько проза, сколько проповедь.)
Я не только не вижу сегодня хорошей книги о вере – книги, которая бы давала читателю если не ответ, то хотя бы стимул для поиска; я не вижу хорошей книги об авторе, за которым всегда стоит и другой, высший Автор. Пишут о чем угодно, кроме себя, – потому что заглянуть сегодня в себя значит почти наверняка увидеть либо болото, либо туман, либо мертвую зыбь. Твердый нравственный критерий нежелателен – он заставит спросить с себя. Прежде вопроса о теодицее: «Как Он терпит?» – следовало бы спросить себя: «Как я терплю?» А такого вы не найдете сегодня ни в одной русской книге.
Поэтому современные русские книги читать неинтересно. Они не лечат, ибо боятся даже прикоснуться к больному месту. Это место вместо йода заливают елеем, а от такого лечения еще никто не выздоравливал.
Остается перечитывать «Воскресение». Но ведь эта книга без конца, что знал Толстой и высмеивал Чехов. И продолжать эпос о встрече русского человека с Богом пока некому.
Идея насчет русского религиозного романа и сей час кажется мне перспективной, но никаких просветов в этом направлении, как и было предсказано, не видно. Впрочем, религиозная проза возможна там, где идет дискуссия о вере. А там, где ее нет, вера есть дело тайное и подпольное, как на протяжении почти всей русской истории.
Без конца
Очередной визит в Петербург заразил меня на некоторое время историческим оптимизмом. Ездил я туда вычитывать с поэтом и искусствоведом Львом Мочаловым корректуру биографии Пастернака, которую под его руководством писал для серии «Жизнь замечательных людей». Мочалов, несмотря на свои семьдесят шесть лет, всегда мне внушает фантастическую волю к жизни. Как всякий человек, который очень много прочел и столь же много повидал, он почти не поддается панике. И во время одной из наших весьма бурных, по обыкновению, дискуссий, от которых вся его древняя квартира на Петроградской стороне вздрагивает сильнее, чем от мимоходящего трамвая, Лев Всеволодович за рюмкой очищенной подарил мне прелестную формулу: «Главная задача нашего времени состоит в преодолении эсхатологизма».
Скорость мочаловской мысли для меня всегда была великовата – я только после двух дней напряженного обдумывания уяснил себе, почему эта формула, столь симпатичная поначалу, для меня все же неприемлема. Аргументы «за Мочалова» на самом деле просты: именно ожидание конца света – как та война, на которую все списывают. Конец, а потому необязательно вести себя по-человечески. Можно показывать по телевизору любую хрень, писать любую халтуру, ловчить в сделках, да просто убивать, в конце концов. Эсхатология – очень удобный самоподзавод не только в лирике, но и в повседневной практике. Согласно одному апокрифу, в старые времена, когда еще был ведом людям их земной срок, странствовал Христос по земле, зашел обогреться к одному крестьянину, а тот ему и говорит: «Прости, Господи, но у меня сегодня и пол не метен, и обед не варен. Даже угостить тебя нечем. Лежу на лавке, смерти жду. Помирать мне сегодня, согласно предначертаниям». Христос разозлился и говорит: «А ну вставай, ленивая твоя морда, скотину корми, пол мети и обед вари! Не видишь – человек пришел, есть хочет! А умереть успеешь, только ни дня, ни часа знать уже не будешь». С тех пор и закрыт от человека его смертный час – чтобы человек этот много себе не позволял.