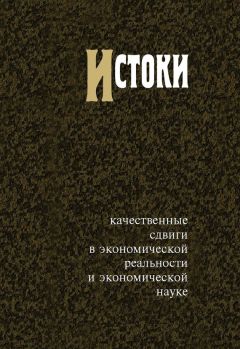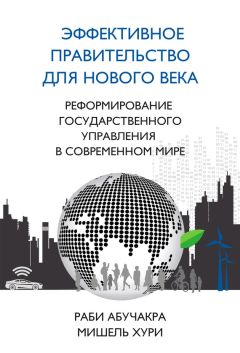Александр Дугин - Элементы #9. Постмодерн

Помощь проекту
Элементы #9. Постмодерн читать книгу онлайн
Как бы то ни было, намечается явная тенденция со стороны отдельной группы интеллектуалов, имевших претензии к «модерну», взять постмодернизм как позитивный инструмент для утверждения своей собственной истины в тех условиях, когда противоположная и ненавистная им позиция теряет видимость абсолютности, начинается раскачиваться, ставиться под сомнение, утрачивать убедительность и очевидность. Если в отношении "новых правых" их робкий оптимизм может быть определен вышеприведенный фразой — "пересидели модерн", то в случае "новых левых" уместно иное определение — "перепрыгнули тоталитаризм, заключенный в модерне", "сделали последний шаг к совершенной свободе". К этой "новой левой" линии оптимистического постмодерна примыкают и Фуко, и Делез, и Деррида, которые — каждый по-разному — видят в данном явлении измерение "новой свободы". Фуко — в последний период, характеризовавшийся разрывом с структурализмом — усматривал в постмодерне окончательный разрыв с "универсалистской парадигмой", т. е. со всеми эпистемологическими и идеологическими нормативами, которые претендовали на монополию, знание единого «кода» реальности. Взамен этого Фуко провозглашал начало эры нагромождения «различий», полную фрагментацию реальности, переход к высвобождению сущностной гетерогенности, несводимости вещей и существ.
Жиль Делез развил свою концепцию «ризома», кишащего хаоса непредвиденных наложений разнообразных эволютивных и инволютивных цепей. От лейбницевской «монады» Делез перешел к теории «номада», "кочевого блуждания реальности" по лабиринтам витальных эшелонов, несистематических и неожиданных различий и синтетических симультанностей. У Делеза нагляден вполне «левый» оптимизм "освобождения хаоса".
Деррида же обнаружил в том же явлении новые пути «дифференциации», которые отныне обладают не статически музейным, но динамическим характером, так как не могут быть постулируемы и классифицируемы.
Любопытно, что всех этих "оптимистов постмодерна" Хабермас, верный "диалектике Просвещения", обвинил в ренегатстве и чуть ли не в «фашизме», верно подметив, впрочем, совпадение энтузиазма у "новых правых" и "новых левых". Сам же он готов скорее причислить себя к "ортодоксальным левым", отрицающих постмодерн как угрозу возврата к пре-модерну. Но именно этот возврат действительно имели в виду Мелер, де Бенуа и Стойкерс, тогда как мысль постмодернистов с "нового левого" фланга обнаруживала, скорее, тревожный виток абсолютного нигилизма. Итак, подведем предварительные итоги. Существует оптимистическая версия постмодерна, основанная на традиции отрицания (или преодоления) модерна. Если эта традиция представлена как непрерывная линия у некоторых современных теоретиков "консервативной революции", то в случае "новых левых" она воплощается скорее в тенденции к "прогрессивному скачку вперед", за рамки развития, имманентно присущие эпохе модерна и распознанные как ограничительные рубежи. Поэтому существует тенденция противопоставлять «постмодерн» как проект, как интеллектуальное усилие, как «озарение», как стиль, как «активность» иным модальностям ультрасовременной эпохи, которые, в свою очередь, определяют пассивную, фоновую, «негативную» реальность, воплощенную в соответствующих концептах «пост-истории» и "постиндустриального общества".
Теперь все эти три понятия могут быть иерархизированы. Если рассматривать постмодерн как явление синонимичное и «гомологичное» пост-истории (Бодрийяра или Фукуямы) и постиндустриальному обществу, то мы можем говорить о "пассивном постмодернизме", "фоновом постмодернизме", "пессимистическом постмодернизме". Такой «постмодернизм» строго совпал бы с культурой, полностью рекуперированной технократическим гиперкапиталистическим проектом постиндустриального общества (об этом выразительно писал Арнольд Гелен). Совершенно очевидно, что нечто подобное явно существует и, быть может, является наиболее выразительным и бросающимся в глаза элементом нашей эпохи. С другой стороны, есть тенденция, напротив, разделять пост-историю и постиндустриальное общество, с одной стороны, и собственно, постмодернизм с другой, рассматривая их как антитезы, как полюса, как противоположности. В таком случае, пост-история и постиндустриальное общество будут синонимами негативных результатов именно «модерна», а постмодерн будет путем преодоления, новым проектом, нонконформистской стратегией, «заданием», «альтернативой». Такой «постмодернизм» можно определить как «активный», «оптимистический», «революционный», «субъектный». И именно на таком понимании сходятся между собой два наиболее радикальных — а это всегда интереснее — фланга современных интеллектуальных полей — "новые правые" и "новые левые". "Новые левые" видят в "активном постмодерне" пришествие освобождающего хаоса, "новые правые" — расчищение пространства для "строительства нового порядка" и "утверждения новой аксиологической структуры".
5. Парентезис — сплавление крайностейОтклонимся несколько от главной темы и рассмотрим подробнее это совпадение позиций "новых левых" и "новых правых" в вопросе постмодернизма. "Новые левые" и "новые правые" отличаются от «старых» по признаку, который сам по себе может служить наглядной иллюстрацией того, что является сущностью «модерна», Neuzeit. "Старые левые" стремятся расширить классическую рациональность до глобального телеологического проекта, основать максимально разумный и упорядоченный строй, доведя до последних границ основные тенденции Просвещения.
"Старые правые" отталкиваются от очень сходной рационалистической парадигмы, но при этом отрицают «проектный», глобалистский, универсалистский и «прогрессивный» ее аспект. "Старые правые" тяготеют к сохранению исторического статус кво, к укреплению и консолидации уже существующих — социальных, политических, государственных, национальных, экономических и т. д. — структур в той дискретной диспозиции, в которой они фактически пребывают. "Старые правые" могут быть названы "минимальными рационалистами", тогда как "старые левые" — максимальными. Но к этим магистральным политическим проектам традиционно примешивались ультра-элементы, которые выходили с обеих сторон политико-идеологической карты за кадры приемлемости. Их обычно называют "крайне правыми" и "крайне левыми". На самом деле, эти элементы были изначально довольно чужеродны общей идеологической расстановке сил, так как их ориентации заведомо пересекали нормативы "нового времени". Именно эти тенденции, но не в сектантской и суженно-еретической, а в открытой и авангардной форме, и легли в основу того, что принято называть "новыми левыми" и "новыми правыми". Их отличие от «крайних» было не в идеологии, но в манере, стиле постановки вопросов и обсуждения проблем. В некотором смысле, они были еще более «крайними», чем самые «крайние», вообще сплошь и рядом выходя за рамки установленных конвенций.
Так,"новые левые" поставили под сомнение «тоталитарные» аспекты коммунизма, наглядно проявившиеся в Советах или маоизме. Но не по моральным соображениям, а следуя логике философии освобождения, которая привела их к критике марксизма и разоблачению его «фашистской» сущности. Иными словами, как наиболее последовательная форма «левого» был утвержден "открытый недогматический анархизм". Но такой «анархизм» в своей законченной версии подрывал всю концептуальную систему "прогрессистской мысли", обнаружившую свои принципы в эпоху Просвещения. Источник «диктатуры» и «эксплуатации» обнаруживался в самом разуме, который для "старых левых", напротив, осознавался как главный инструмент освобождения. Ясно, что далее следовал хаотический иррационализм, отказывающийся от любых строгих и фиксированных кодов и рационализаций, вплоть до таких гибких и комплексных моделей, как фрейдизм (см. критику фрейдизма у Делеза и Гуаттари в "Анти-Эдипе")"Новые правые", со своей стороны, прошли аналогичный путь, но в обратном направлении. Одним из вдохновителей их мысли был Юлиус Эвола, атипичный политик, философ и идеолог, который рассматривал всю историю современного мира — начиная чуть ли не с христианства — как эпоху деградации и вырождения и противопоставлял этому древнейшие идеалы традиционных обществ Античности. Ясно, что на философском уровне это означало полный разрыв с рационализмом во всем его интерпретациях, а следовательно, и со старыми правыми, ограничивающимися «национализмом», «этатизмом», конвенциональной религиозностью, морализмом. "Новые правые" — в первую очередь, Ален де Бенуа, Джорджо Локки и т. д. — внешне модернизировали дискурс традиционалиста Эволы, добавили к нему множество культурных, философских и научных пластов, которые выражали ту же тенденции на иных языковых уровнях. В современной философии и физике это направление получило название «холизма», от греческого слова «холос», «целый». Вслед за Эволой "новые правые" утверждали, что дух современности основан на "разъятии целостного", на анатомировании, и это касается как сферы мысли, так и сферы политики. "Новые правые" подвергли масштабной ревизии всю «правую» мысль, отвергнув большинство ее постулатов — «государство-нацию», «мораль», «ксенофобию», «элитизм» и т. д.