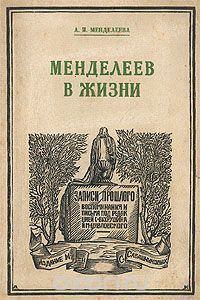Дмитрий Журавлев - Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева
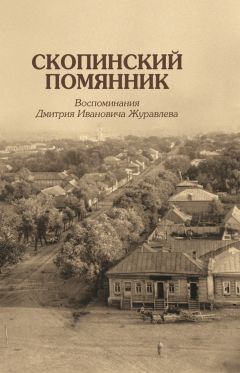
Помощь проекту
Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева читать книгу онлайн
Когда вернулся из плена Леня Кормильцев, устроили его секретарем. А сам судья больше предпочитал толкотню на базаре, продавал рваные башмаки и проч.
Года через два сам осознал: больше не удержишься. Уехал в Раненбург. Что делал там? Кажется, был учителем, давал платные уроки. <…>
После 1933 г. И.В. переселился в Ступино под Москвой. Там родственники его жены <второй>. Был учителем в школе. Когда стали в школах наводить порядок и от учителей потребовали образования, И.В. не мог представить документов: они когда-то сгорели, и сдал с успехом все экзамены на учителя. Прекрасная память. До смерти помнил он, например, все фигуры силлогизма. А учил еще в семинарии. Война погнала его снова в Раненбург. В конце войны его выписала в Москву и устроила ему квартиру племянница Анны Николавны <жены>, очень важная особа, заведующая хлебным магазином, хлеб тогда выдавался по карточкам. Дядя потребовался продавать с рук на рынке «остатки» хлеба. <…>
До революции И.В. занимался писательством, сочинял драмы. Когда жил в Скопине, давал мне читать одну. Не помню, да и критик я плохой, тогда и подавно. В Раненбурге чуть ли не ставили его драмы на любительских спектаклях. В Москве он посылал на молодежный конкурс под псевдонимом рассказ или повесть, но получил разносный ответ: «автор не избежал пошлости…». В последние годы он написал философский трактат. Говорил о нем, но мне не показал. Не помню, то ли сам послал, то ли завещал переслать его сыну дяди Васи. Я не скрывал своего иронического отношения к его философствованию. Однажды, войдя к нам и усевшись, он начал разговор: «Я утверждаю, что на солнце тоже есть живые мыслящие существа». Я уклонился от диспута, ограничившись репликой: «Изжарятся!». «Ты, Митя, похож на Ивана Карамазова», – заявлял он в таких случаях.
Интересное приключение: когда И.В. торговал на рынке хлебом, к нему подошел пожилой человек с возгласом удивления: «Отец Иван!». Узнал своего бывшего священника лет через 40! Понятно: страшно смутил его.
Василий – родился 31 декабря 1880 г., умер 10 октября 1949 г. Мало что могу написать о нем. При свиданиях – это молчаливый, задумчивый человек, только все смотрел на нас. После Академии поступил учителем Духовного училища в Екатеринослав. Преподавал и в женском Епархиальном училище. Женился на совсем юной девочке, своей ученице. Симпатичная была женщина Ольга Дмитриевна, жизнерадостная. В 1912 г. в Раненбурге она рассказывала папе, что родила своего сына первенца то ли во время танцев где-то на балу, то ли тотчас после танцев, и с детски наивным видом спрашивала: к чему это? <…> Три сына: Василий, Дмитрий, Павел, один – врач. <…> От дяди Васи мы писем никогда не получали; есть карточка без даты: он в семинарской тужурке… Карточка, вероятно, еще от мамы. <…>
Когда-то папа прочитал в газете сообщение из Екатеринослава: ученик Духовного училища во время занятий вошел в класс и выстрелом из револьвера ранил учителя Левитова. Ученик был уволен и стрелял в качестве мести училищу, не имея зла против В.В. Попал в плечо. Еще в 1912 г., когда мы виделись в Раненбурге, B.B. не мог поднимать руку достаточно высоко.
Алексей – родился в мае 1883 г., умер 8 ноября 1933 г. Детский паралич оставил след на всю жизнь: не мог повертывать голову в какую-то сторону. Один из всех братьев остался холостым. Был очень религиозен, до мистицизма. Преподавал в Духовном училище. Едва ли был хорошим учителем. Чудаковат. А дети жестокий народ: не прощают никакого отступления от средины. В советское время его преследовали за религиозность и незадолго до его трагической смерти прогнали с работы. Из поездки на Юг он привез красивый, черный камень. В 1912 г. камень так понравился Сереже, что он упросил бабушку подарить ему. Камень и сейчас у нас. Вот, думали мы потом, было огорчение Алеше!
Есть у нас две карточки – Алеша в косоворотке, стриженый наголо, 23 июня 1903 г., Рязань.
В детстве на Рождество и Пасху мы посылали в Раненбург открытки с картинками. Сами получали открытку от семейства Левитовых. Писал обычно Алеша, своим крупным почерком с наклоном слева направо, он же написал письмо с ответом на сообщение о смерти Сережи. Оно должно быть цело. Но где оно? <…>
Дмитрий – родился в октябре 1884 г., умер в начале марта 1952 г. Последний ребенок в семье, любимчик матери, «Митец» – звали его братья. Он сопровождал мамашиньку, когда та приезжала в Скопин к умиравшей маме. Позже, в его студенческие годы (он окончил университет – филолог), ему пришлось долго ждать поезда в Ряжске. Выпил, и навеселе вспомнив о зяте в Скопине, нашел способ скоротать время – приехал к нам на полчаса, на час и вернулся в Ряжск к своему поезду. Смутно припоминаю этот визит – последний его приезд в Скопин. Ни писем от него, ни его фотографии у нас никогда не бывало. Совсем чужой нам человек.
А.В. Левитов, 1903 г., Рязань
19 апреля 1913 г. дядя Миша писал папе: «У мамаши к Пасхе большое горе: Дмитрия забрали в солдаты. Впрочем, есть некоторая надежда на освобождение. Лежит в Варшаве на испытании. Хоть и сам виноват, – но все же очень жаль». Служил он один год вольноопределяющимся. <…> «Сам виноват» – думаю, болтался без дела, с государственной службы в армию не брали. Значит, он не был в это время учителем. Жил он в Раненбурге, профессия – учитель средней школы. Жена его, умелая портниха, своим трудом содержала семью. Не признавала ее за родню свекровь: «мещанка», низко для ее сына. А женщина очень хорошая. Были дети. И теперь есть неведомое нам потомство. <…>
Левитовы совсем без слуху, музыку не любили, совершенно не пели. Не знаю, как обходились в службе дядя Миша, да и Ваня. Тяжко слушать таких священников…
Все Левитовы не считали себя способными к математике. В разговоре со мной в Москве в доказательство своей неспособности к математике дядя Паша указал: он всегда затрудняется высчитать сдачу в магазине. Когда я пытался объяснить ему разницу между простым счетом и математикой как наукой, он не хотел вникнуть и понять смысл моих рассуждений, оставаясь при своем мнении как неоспоримой истине. А я нахожу, что ум Левитовых чисто математический. Ему свойственна характерная для математиков узость логических суждений, последовательность, непрерывность цепи, то, что полезно в математике, но во всем прочем приводит рассуждения к отрыву от реального, – качество Левитовых, над которым папа иной раз был не прочь посмеяться. Не знаю, возможно, геометрического воображения и не хватало, – его совсем нет и у некоторых крупных математиков. <…>
…К дяде Паше в нашу комнату приходил повидаться с ним его семинарский товарищ – врач, из той же среды. Узнав, что я на физико-математическом факультете, он с удивлением заявил: «Вот куда потянулись наши!». Трудно мне сказать почему, но семинаристы больше шли в медицину.
Я как-то зашел в Москве в незнакомую мне церковь. Еще в студенческие годы. Было богослужение, священник говорил проповедь: громил математиков, обвиняя их во всем общественном зле. Откуда неприязнь к математике? В мое время в Рязанской семинарии математику преподавал человек, сам учившийся в семинарии и духовной академии, т. е. сам никогда не изучавший математики и не знавший ее. То же и в других семинариях. Такие учителя не могут скрыть своей неприязни к своему непонятному им предмету, не могут и пробудить интерес и любовь у учеников. Ученики воспринимают у учителя не только знания, но в первую очередь его эмоции – стимул к знанию. Наиболее способные семинаристы научались логично мыслить, проникали в глубокий смысл философских учений, знали, что математика – область безусловно содержательная, но им чуждая, недоступная пониманию и потому враждебная. <…>
2 сентября 1969 г.
ВИНОГРАДОВЫ. РОДНЯ БАБУШКИ РАНЕНБУРГСКОЙВот ее родословная:
«Диакон Евфимий» и жена его Александра – из села Вязовёнки Скопинского уезда. Евпраксия Ефимовна, «мамашинька», – наша бабушка. Ее брат Порфирий – пьяница и лодырь. Он добыл бумагу, разрешавшую ему как члену причта просить пропитание у мира ради его хромоты. Была такая форма, думаю, забыли отменить с древних времен. Порфирий нанимал мужика с подводой, ездил с «бумагой» по селам, набирал много милостыни и пропивал с помощью возчика. И так от кабака до кабака. Был как-то у нас. Смутно припоминаю хромого и объяснения наших – кто это. У него дочь Евгения, Еня Левитовых, их двоюродная сестра. Ее очень любили братья Левитовы. Она не выходила замуж. По крайней мере, в 20-е годы жила в доме Левитовых с дядей Алешей. Работала на махорочной фабрике. Получила чахотку. Последние годы жила в Ступине, под Москвой. Умерла в ноябре 1967 г. Еня сохранила и переслала нам мамин портрет. Он в большой раме в овале висел на самом видном месте в доме Левитовых. Его делал фотограф в Екатеринославе с карточки от 6 сент. 1902 г. после смерти мамы. Теперь он в другой раме, несколько урезанный, висит в моей комнате. Спасибо Ене! Совсем, можно сказать, чужой нам человек, я не помню ее в лицо, и все же поберегла нам портрет. <…>