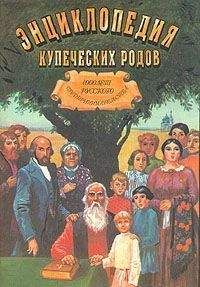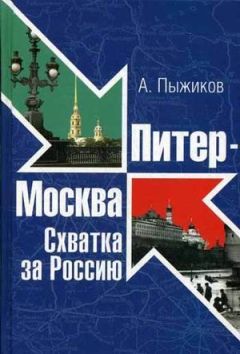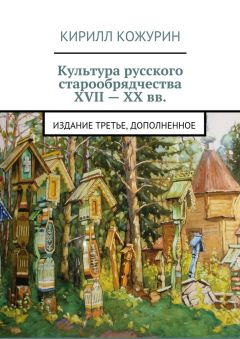Александр Пыжиков - Грани русского раскола
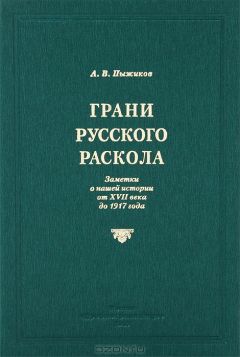
Помощь проекту
Грани русского раскола читать книгу онлайн
Староверческая тема присутствует и в романе «Преступление и наказание» (1866). Напомним читателям образ крестьянина Миколки: именно он заявил властям, что убил старуху-процентщицу. Как выяснил следователь, этот молодой человек был раскольником-бегуном, около двух лет живший под началом старца-наставника: его поступок (признание в убийстве, которого он не совершал) определялся одним стремлением – «пострадать», при чем страдание принять не от кого-либо, а непременно от властей[112]. Такие воззрения, имевшие религиозную окраску, являлись неотъемлемой частью страннической идеологии. Очевидно, что Достоевский вводит персонаж этого раскольника для наиболее полного раскрытия темы искупления, которой собственно и посвящен роман. Страдание как духовное очищение – эту мысль, прочно укоренную в сознании представителя народа – Миколки, только-только начинает постигать интеллигент Родион Раскольников.
В первой половине 60-х годов система взглядов писателя находилась в стадии формирования. Тем не менее, ее основы просматриваются уже зримо. Оторванность дворянского сословия от народа, полное непонимание его нужд и стремлений осознана и выстрадана самой жизнью Достоевского. И весьма примечательно, что постижение русского народа он напрямую связывает с расколом, наиболее полно выражавшим его внутренне состояние. В годы, когда российское образованное общество было захвачено новой тогда раскольничьей темой, эти веяния не могли не затронуть и Ф.М. Достоевского, искренне увлекавшегося этим религиозным явлением. Напомним, что А.П. Суслова, с которой писателя в первой половине 60-х годов связывали близкие отношения, являлась раскольницей, родом из Нижегородской губернии[113]. Она никогда не посещала церковь, отличалась резкостью суждений; одно время намеривалась даже податься в согласие бегунов-странников, чтобы «жить полнее и шире»[114].
Ключевым моментом в формировании взглядов Достоевского стало его знакомство с творчеством Константина Голубова. Известно, что этот раскольник-беспоповец издавал в Пруссии журнал «Истина», где размещал свои статьи по различным нравственно-религиозным проблемам. В конце 60-х годов XIX столетия он возвращается в Россию и переходит в единоверие. Этот шаг вызвал взрыв энтузиазма у ревнителей официального православия: статьи о Голубове заполнили российские издания, его журнал начал широко распространяться по России[115]. Прежде всего, он резко выступил против «свободы совести», считая эту идею прямой дорогой к безверию, уже протоптанной на Западе[116]. Самое страшное на этом пути сомнения в православии, именно из них «произрастает бессознательная веротерпимость». А это настоящая погибель для русского человека, жизнь которого заключена «в жертве за правоверие»[117]. Очевидно, такая позиция предопределялась отношением к православию как несущей конструкции народной жизни. При чем, по мнению Голубова, здесь важна истинность самой веры, а не ее разновидности, древность, новизна и т.д. Он был убежден, что подлинная истинность во всей своей полноте как раз и выражена в православии, которое богаче и выше, чем любая другая религия (индуизм, протестанство и др.)[118]. Эти взгляды бывшего раскольника, может быть, были бы и приемлемыми для церковной администрации, однако тот и не думал ограничиваться ими. Вскоре восторги, связанные с его переходом в единоверие, сменились прохладным отношением: Голубов оказался далеким от почитания синодальной версии православия. Более того, он начал излагать свое видение устройства церкви, где не только обряды, но и иерархия занимали, мягко говоря, не главное место.
Голубовские воззрения привлекли внимание Достоевского: он связывал с ними узловые моменты духовного становления православного человека. В письме А.Н. Майкову он прямо писал:
«А знаете, кто новые русские люди? Вот тот мужик, бывший раскольник... о котором напечатана статья с выписками в июньском номере «Русского вестника». Это не тип грядущего русского человека, но, уж конечно, один из грядущих русских людей»[119].
Работая над романом «Бесы» (1870), Достоевский берет на вооружение идеи Голубова, созвучные с его собственными размышлениями, и приступает к их творческому развитию. Заметим, что в черновиках произведения Голубов фигурирует в качестве действующего лица, чья роль в идейном замысле «Бесов» крайне значима[120]. Однако присутствие на станицах романа человека, не оправдавшего надежд синодальных властей, представлялось для них крайне не желательным. Достоевский был вынужден отказаться от Голубова, но только не от развития взглядов с ним связанных. Для этого он вводит в сюжет главу «У Тихона»[121]. На ее страницах раскрывается тема церкви, живущей исключительно верой во Христа. Объединяющим центром такого духовного сообщества выступает искупление, а не преклонение перед иерархией. Не случайно и сам Тихон у Достоевского находится на покое: он не имеет никакой административной власти, т.е. является архиереем не представляющим иерархии. Но именно он несет Ставрогину тот необходимый каждому образ искупляющей церкви, который дорог Достоевскому. Как известно, эта глава вопреки возражениям писателя не вошла в основной текст романа. Идейные интенции Тихона оказались рассредоточены между фигурами Шатова (из народа, но без веры, а потому погибает) и Хромоножки (обращение к родине, опоры в жизни).
Исследователям литературы хорошо известен сюжет с Голубовым при подготовке «Бесов». Однако, считается, что на этом Голубовская история у Достоевского исчерпана. Однако, судя по дальнейшему его творчеству, это далеко не так. По нашему мнению, идеи бывшего раскольника после конкретной разработки в «Бесах» предстают на страницах «Подростка» (1875) в художественном образе Макара Долгорукого. Это крайне интересный персонаж продолжает мысли Достоевского: раскрытие церковного идеала здесь выражено в художественном образе. В романе М. Долгорукий ведет отшельническую жизнь, но в тоже время он опять никак не связан с иерархией. Размышляет обо всем, но совсем не упоминает церковной администрации. Достоевский как бы показывает его внутреннюю свободу или самообразность; поведение, любые действия этого странника несут положительный заряд. Появляясь на страницах романа, он мирит семью Версиловых, всех успокаивает, укрепляет в вере и т.п. При чем, у него это получается естественным образом, легко: в этом и выражается макарово благообразие, т.е. порядок не снаружи, а – внутри человека[122]. По Достоевскому – собственно в этом и состоит действительная роль церкви, ее подлинное назначение в жизни. Не соблюдение официальной церковной традиции, а поддержание внутренней свободы. Но для нас самым интересным в образе М. Долгорукого является эпизод, где прямо указывается его раскольничья подоплека. После смерти Макара от него, не имевшего ни какой собственности, остается лишь одна старая икона без ризы. О ней сказано, что это образ «родовой, дедовский; он весь век с ним не расставался... и, кажется раскольничий»[123]. Конечно, этот маленький эпизод многозначителен, как и все у Достоевского. Раскольничий штрих в повествовании о страннике не выглядит случайным: он явственно указывает на источник благочестия русского народа. Источник, который, находясь вне синодальной, господствовавшей церкви, слабо ориентирован на последнею.
Все эти мысли писателя получили затем идейную шлифовку на страницах «Дневника писателя» (1876-1880). Здесь проведена осмысленная грань между народным православием и его синодальным вариантом. Русские образованные круги не сумели понять, что есть православно-народная культура: просвещенное общество не может найти общего языка со своим народом. Отсюда утверждения Достоевского, что «всякое дерьмо», о котором печется правящий класс, т.е. конституция представляет интересы общества, но уж совсем не народа. «Закрепостите вы его опять!» – восклицает писатель[124]. У простого русского народа совсем иные предпочтения: он никогда не сделается, «каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою»[125]. Достоевский постоянно оперирует понятием православие народа, правда, не называя его впрямую старообрядчеством. Именно этим народным православием необходимо просветиться образованным сословиям, что «будет воистину школою для всех нас и самою плодотворную школою»[126]. Только путем духовного слияния разрешится противоречие между ними и русским народом. Это создаст общее дело, которое «страшно поможет всему, все переродит вновь, новую идею даст»[127]. Ее значение Достоевский сравнивал с крестьянской реформой освобождения от крепостничества[128]. Контуры этой новой, перерожденной идеи (церкви) мы находим на страницах последнего крупного романа писателя «Братья Карамазовы». Перед нами образ, если можно так сказать, горизонтальной церкви. Весьма символично, что в романе ее олицетворяют двенадцать мальчиков, собравшихся на похороны их сверстника Илюшечки, скончавшегося два дня спустя после приговора Дмитрию Карамазову[129].